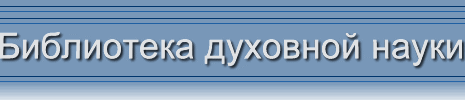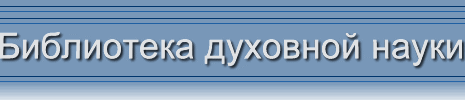Материалы из переведенного, Сидоровым Владимиром Матвеевичем, двухтомника выдающегося немецкого исследователя народной психологии Герберта Хана "О гении Европы" (Herbert Hahn "Vom Genius Europas"). В произведении глубоко и полно описаны национальные характеры русских, немцев, англичан, французов, итальянцев, испанцев, португальцев, голландцев, датчан, шведов, норвежцев, финнов. Пока можно ознакомиться с отдельными выдержками из глав об Италии, Испании, Португалии, Франции, Германии и России. Материал взят с авторского сайта В.М. Сидорова
Италия
Испания
Семана Санта
Коррида
Феномен Лопе де Веги
Чаша Грааля
Португалия
"О гениии Европы" из главы о Франции
"О гении Европы", из главы о Германии
Русское пространство, "Espace" и "Raum"
Между драконом и архангелом
Италия
Италия является страной, для которой тонкая мера и полное равновесие стали мотивами жизни. Имея характерный вид задвижки, Апеннинский полуостров вместе с Сицилией, как бы обращенной щитом в сторону Африки, разделяет Средиземное море на две части, одинаково значимые с географической и исторической точек зрения. Но если посмотреть на карте рельеф самой Италии, то удивишься тому, что север и юг прекрасно компенсируют друг друга: в общем и целом Ломбардская низменность по своей значимости для ландшафта соответствует высокогорью Сицилии. Между ними простирается тело самого полуострова, который в свою очередь весьма многозначительно разделен смелой дугой Апеннинских гор.
Но сначала обратим внимание на бросающуюся в глаза противоположность: Ломбардская низменность с одной стороны, Сицилия с другой. Первая указует нам на покрытые снегом вершины Альп, в то время как Сицилия с ее господствующим над островом Этной напоминает о вулканической природе нижней Италии. Эта противоположность между альпийской ясностью и огненной взрывной силой имеет большое значение. Оно еще не раз встретится нам в характерных чертах всего итальянского.
Определенным образом мы чувствуем нечто от вышеуказанной противоположности, следуя с севера на юг за деревьями, которые формируют собой итальянский пейзаж. Итальянское начало в пейзаже или в народе мы вообще должны больше ощупывать и вдыхать, нежели постигать аналитически.
Как только мы перейдем Альпы и войдем в Ломбардскую долину, взгляд наш будет прикован к узловатым кустистым ивам, стоящим целыми рядами либо обрамляющим пашни и сады, будто одинокие сторожа. Если житель севера увидит, как эти деревья торчат поздней осенью или уходящей зимой на сером и сыром, окутанном туманом поле, столь характерном в определенные месяцы для Ломбардии, то холодок слегка пройдет у него по коже. На него нападет некоторая меланхолия, и он, видимо, недовольно скажет сам себе: Ну, и зачем я, собственно, отправился на юг? Ивы, туман и все, что с этим связано, - это я и дома мог увидеть. Только, может быть, получше и уж в любом случае поудобнее, потому что все это более сносно, если ты только что с теплой печки.
И впрямь может показаться, что в иве в волшебный южный мир прокралось что-то похожее на мрачного гномоподобного обитателя более суровых областей Европы. Но за этим мимолетным впечатлением мы не должны забывать истину, справедливую для всех южных романских стран Европы, но особенно для Италии: Италия без солнца не Италия. И потому мы лишь тогда по-настоящему увидим в Италии иву, когда над просторной Ломбардией с ее рассыпанными по местности монументальными крестьянскими постройками будет лазурно-голубое небо и когда перевязанные перед приходом холодов ветви виноградника вновь освобождены. И они вьются веселыми хороводами от ивы к иве, и кажется, что они поют одну из тех шутливых ритурнелей, которые так легко соскакивают с языка крестьян и крестьянок этого плодородного уголка земли. Дядечки с севера удовлетворены, и даже, кажется, сами став музыкальными до глубины души, тихо подпевают басом.
Но опять же не так, чтобы все позабыть: они блюдут свое достоинство в неколебимой монументальности.
Уже в этой местности и повсюду у берегов озер в северной Италии и на Ривьере мы встретимся и с другим характерным деревом, с кипарисом. Его суть, пожалуй, ни один художник не ухватил лучше Арнольда Беклина, нарисовавшего свой "Мертвый остров" под впечатлением от кипарисов в Сан Виджилио у озера Гарда. Это остров ночи посреди смеющегося южного дня, тихое напоминание "memento mori" среди то детской, то чувственно-глупой жизни. Уже отдельно стоящий кипарис удивляет и вызывает вопрос. Стоя вот так, указывая и взывая с высоты, он в своей изящной оболочке кажется с головы до ног окутанным непостижимой тайной. Уже давно кипарис называли деревом-обелиском итальянского ландшафта. Этими словами действительно выражается нечто существенное. Но с египетским началом мы встречаемся не только стоя перед отдельным кипарисом, а в еще большей, пожалуй, степени там, где дерево выступает в составе группы, как это особенно хорошо видно в районе Флоренции. Мы имеем в виду кипарисовые рощи Фиезолы.
В египетском храме царит мрак. Когда вступаешь в него из пустыни, опаленной ярким солнцем, то перешагиваешь хорошо ощутимый порог. Благодатная ночь принимает тебя. Дневные ощущения исходят вместе с дыханием, начинают шевелиться высшие чувства. Точно так же и кипарисовая роща посреди солнечного блеска и роскошных южных красок несет в себе какой-то освежающий источник для наших глаз и других органов чувств.
Но уже в окрестностях Флоренции и Пизы мы встретимся и с третьим из деревьев, участвующих в создании облика Италии, - с итальянской сосной пинией. Если сверху смотреть на пиниевый лес, на "pineto", то куполообразные кроны деревьев покажутся плывущими на небольших волнах, будет впечатление озера, поверхность которого слегка морщится ветром. Если же мы зайдем под эту воздушную сводчатую пиниевую крышу, то нас охватит совсем иное настроение, чем в кипарисовой роще. Мы почувствуем себя в сухой и веселой среде, в приятном настоящем, легко отгадывающем все таинственное. Можно вообразить, что здесь велись такие беседы, какие бывали раньше на римском форуме: речи за и против, пропитанные здоровым реализмом и сдобренные меткой шуткой и остротой.
Однако и пиния не раскрывает своей настоящей сути взору сугубо рационалистическому. Кто хочет понять пинии полностью, пусть посмотрит, как они стоят в Риме весенним вечером сразу после захода солнца. На фоне высохшего, даже темно-синего неба иглы кипарисов кажутся огненно-красными, и будто треск свечей слышится из ветвей. Явление, которое на севере Европы лирически заполняет собой всю летнюю ночь, здесь драматично сжато в несколько мгновений на узкой южной границе между днем и ночью. Итальянский композитор Отторино Респиги попытался передать это волшебство в звуках.
Если ива кажется нам представителем севера в южной природе, то пальма, хотя и встречающаяся в Италии чуть ли не повсюду, напоминает нам о еще более южных областях по ту сторону синего Средиземного моря и океана. Чуткие органы ее солнечного венца начинают дрожать при малейшем холоде, и неминуемо начинаешь мерзнуть сам и с мольбой вспоминать о том, что этому созданию земли и солнца нужен избыток света и тепла, чтобы почувствовать себя как дома. И потому за исключением Ривьеры и некоторых особо укромных мест возле озер северной Италии пальма на севере страны производит все же больше декоративное впечатление. В пальмовой роще Санта Лючии в Неаполе она, видимо, чувствует себя поуютнее, а в Палермо почти как дома. Но полной естественности своего бытия она достигает в другом месте южной Европы, о котором еще пойдет речь.
Однако мы не вправе завершать этот ряд от ивы через кипарис и пинию к пальме, не почтив еще и пятую спутницу, сопровождающую каждую из своих братьев и сестер. Речь идет о маслине. Простенькая, но, стоя одиноко на местности, неописуемо соблазнительная для любой руки, умеющей рисовать. А над маслиновыми садами стоит нежное, едва заметное сияние, которое становится более сильным и почти осязаемым на ощупь при бледном свете луны, смешанном с серебром узких язычков листьев.
И опять же маслина становится загадочной, если смотреть на нее в плотном свете южного полуденного солнца. Ее ствол зачастую расщеплен и стал шероховатым, будто непостижимым образом сохранившиеся руины стен некогда величественного здания. В неустанном ритме этот ствол пронизывается металлическим сверлящим стрекотанием цикад. Все кажется старым и разрушенным. И все же наверху поднимаются зеленые ветви, а маленькие узелки предвещают плоды, которые вскоре незаметно наполнятся самым чистым маслом, какое только бывает. По облику дерева кажется, что дыхание жизни его покинуло, но год за годом оно производит ту благодать, без которой немыслима пища итальянцев. Ведь масло и вино, именно они издревле создают атмосферу, теплую духовно-телесную оболочку Италии.
Мы эскизно представили себе облик деревьев, и тем самым несколько глубже погрузились в своеобразие страны. Но каким предстает перед нами итальянский ландшафт в самом общем виде?
Умение воспринимать ландшафт в целом вообще относится к достижениям нового сознания. Как маленькие дети интересуются в ландшафте только деталями, будучи не в состоянии охватить его величие в целом, так же воспринимали его и люди прежних времен, жившие под любым небом. Одним из первых, давших действительно подходящее описание итальянского ландшафта, был Гете. Его письма об "Итальянской поездке" содержат описания, непревзойденные и поныне в их конкретности, красочности и духовной проникновенности. И все же гетевские описания не смогли воспрепятствовать тому, что вместо истинной картины итальянского пейзажа стали появляться картины, искаженные романтическими грезами. Этим романтическим псевдоитальянским картинкам в свое время положил конец историк культуры из Прибалтики Виктор Ген. Его небольшая работа "Об облике итальянского ландшафта", ныне, к сожалению, почти забытая, относится к лучшему из того, что когда-либо писалось об Италии.
Виктор Ген очень убедительно показывает, что приезжающему с севера нужно еще обрести специальный орган чувств, чтобы вообще суметь увидеть Италию. Ведь приезжают из областей, где сумерки, сны и отзвучавшие мифы еще овевают пейзажи и делают их контуры расплывчатыми, где в таинственном шепоте живой лесной природы еще верится в сказки, где небольшая церковная башня, мельница, отдельный дом зримо несут на себе отпечаток одухотворенной созидающей руки человека, и где они предстают пред одухотворенным зрячим человеческим глазом.
А что вместо этого он находит по ту сторону Альп?
Вместо живого и лишь слегка контурированного ландшафта такие образования, которые по мере движения на юг принимают все более законченный и в то же время суховатый вид. Ничего таинственного не окружает эти формы, они покоятся в удовлетворяющем их настоящем. И если взгляд охотно задерживается на тех кипарисовых рощах, на палаточных городках из пиний и на маслиновых садах, о которых шла речь, то все же напрасно искать взглядом лес в смысле леса средней Европы, не говоря уже о Европе северной. А если не посчастливится приехать солнечным днем, то отдельные хижины и дома или придвинутые к стенам скал либо стоящие на вершинах городки покажутся непривлекательными и голыми с их блекло-голубыми или грязно-коричневыми красками, не говоря уже о впечатлении, будто они заброшены и предоставлены разрухе. Да и откуда чужестранцу знать, что итальянец даже свои дома считает созданием солнца и потому воздерживается прилагать руку к тому, что раз и навсегда поручено теплу и солнечному свету.
Мы передали здесь в свободном изложении кое-что из основных мыслей Гена. Констатируем прежде всего, что Виктор Ген подчеркивает пластическую оформленность итальянского ландшафта, монументальность его частей, четкость контуров и полное отсутствие романтического в основных мотивах. Между прочим, говоря о четкости контуров, можно легко поддаться недоразумению. Кто-то может возразить: разве горы в Швейцарии или в Богемии, крутые скалы у Атлантического океана или в проливе Каттегат не имеют столь же четких контуров? Конечно, имеют. Но восприятие контуров на местности определяется не только предметно данными формами земли или растительностью. Оно зависит от воздуха и света, обыгрывающих эти формы, а в более тонком смысле даже от того, что исходит от земли в виде тепла или какого-то неуловимого элемента. Эти "летучие" факторы могут при внешнем сходстве структурных элементов физического свойства быть совершенно разными в разных странах.
И здесь мы вправе вновь обратиться к Виктору Гену. Его заслуга в том, что он показал, что Италия вместе с еще некоторыми средиземноморскими странами погружена в мир совершенно особого света. Это слегка пластичный и в то же время художественный свет, мягко выделяющий даже отдельный пень дерева или валяющиеся без присмотра булыжники, делающий их интересными и без обиняков превращающий их в эстетически ценные объекты. Такой свет простирается от греческих островов через всю северную и среднюю часть Средиземного моря до Пиренейского полуострова и еще тонким язычком протягивается от Прованса до Парижа. Если мы воспримем этот нежный свет как реальность, то он раскроет нам многие тайны ландшафтов южной Европы.
Важно почувствовать, как сильно он отличается от еще более южного света Северной Африки и имеет совсем другие качества, чем свет в средней и в северной Европе. Особенно о последнем, о скандинавском свете, еще пойдет речь в другом месте.
Для Италии как отдельной страны особенно важно, как здесь свет соединяется с воздушной стихией. Кажется, этот воздух обладает чрезвычайной эластичностью, космическим дыханием, и одновременно он чист, как кристалл. "Ариа" называется он на звучном итальянском языке. И то, что дети этой страны от колыбели до смертного одра дышат именно ариа, а не каким-то другим воздухом, придает им свойство оформлять слова ясно и отчетливо. Этой ясностью дается один из двух образующих элементов итальянской речи. О другом мы еще поговорим. В ариа, кажется, деликатно и в несколько ином виде воплотилась вся та живость, которой лишила нас большей частью пластичная и монументальная итальянская природа.
И не удивительно, что эта богато одаренная дочь неба не довольствуется тем, что делает с местностью и с людьми прямо у нас на глазах и прямо возле наших ушей. Ее влияние простирается и выше облаков, в пространство между небом и землей. Там она создает ту бросающуюся в глаза небесную голубизну, которую итальянец называет словом "il sereno". Феномен "серено" в итальянском небе не только трудно описать словами, но и вряд ли можно изобразить какими-либо средствами искусства. Нельзя даже кистью гениального художника. Это просто надо увидеть. Лишь само слово немного указывает на то, когда можно увидеть это благословенное явление. "Sereno" связано с "sera", то есть с вечером. К удивлению мало еще знакомого со страной и с людьми путешественника, этот самый вечер в представлениях и в чувствах итальянцев начинается сразу же в ранний полуденный час. Но кульминация его наступает в тот час, когда вскоре после захода солнца и почти без промежуточных сумерек мощно вступает ночь. Именно тогда "серено" светит своим самым чистым, охватывающим всю высь блеском. Само оно не смеркается и не улетучивается, а приятно обнимает и очерчивает границу. Границу, в которой нет ничего довлеющего, а скорее есть даже нечто прозрачное, ведь за ней чувствуется не столько мрак вселенной, сколько живая и духовная сила эфира.
Странную и в то же время весьма содержательную мысль об Италии высказал однажды Фридрих Геббель. В Италии, - сказал он, - никто не бывает "безнаказанно". Приехавший туда непременно оставит там что-то от того, с чем он приехал; а покидающий страну возьмет с собой что-то, о чем раньше не мог и мечтать.
Было бы соблазнительно проследить истинность этого утверждения по биографиям известных лиц, ездивших в Италию. Она очевидна для каждого, знакомого с жизненным путем Гете. Но и в дневниках других писателей, в письмах и зарисовках художников, музыкантов, философов должно найтись много поучительного. Однако стоит ли ходить так далеко? Разве наши наивные наблюдения не подтверждают ежедневно, что мы оставляем что-то, если не просто поспешаем по итальянской почве, но действительно прикасаемся к ней?
Как люди запада, севера или центра, мы все носим бремя, возникающее от постепенного засорения наших органов чувств. Они у нас только в детстве и в начале юности свежи и непредвзяты. Идущий от сердца теплый поток крови больше не достигает их, когда мы становимся постарше. Не только в самом по себе мышлении, но даже и в восприятии мы заражены абстракцией. То существенное, что могли бы сказать нам вещи, в нас умолкает; и с тем большей жадностью глотаем мы насевшую на эти вещи пыль. Так мы слишком рано остареваем, и становится невероятным, что когда-то мы были детьми.
Воспринимая мир Италии, мы, взрослые или даже пожилые люди, переживаем как бы второе детство. Мы видим, слышим, осязаем, обоняем, ощупываем и играем на всей шкале прочих органов чувств так, будто нам три года или лет пять. И одновременно у нас то преимущество, что мы можем воспринимать своим ясным дневным сознанием все то богатство, которое плывет к нам. Это переносит нас в состояние прекрасного волшебного полета, где бы мы ни стояли и куда бы ни шли. И это не только очищает и освежает органы чувств, но и вкладывает в душу новые неуловимые ценности. Что-то здесь похожее на то, что можно почувствовать в дни выздоровления.
Должно быть, так чувствовал себя Карл Фосслер, который любил выражаться в дерзкой, даже грубой форме. В своем наброске о неаполитанском народном поэте Сальваторе ди Джакомо он вдруг восклицает: "Да в Неаполе и дерьмо мило!"
Говоря перед этим о бремени и о растущем с годами засорении органов чувств, мы не случайно не упомянули человека из восточной Европы. Даже там, где его все больше и больше опутывают сети технизированной цивилизации, он дольше других сохраняет еще многое от изначальности ощущений. Настоящему сыну русской земли тоже известно кое-что от наивности ощущений. С этой точки зрения для него Италия больше является продолжением, нежели откровением и перестройкой - как, может быть, и для многих жителей экзотических частей поднебесья. Но и эту истину следует принимать со значительной примесью соли. Потому что в Италии свет и воздух сотворяют такие отношения, которые не встретятся в других странах. В такой чистоте не встретятся даже в соседних южных областях.
На элемент итальянского ландшафта, который следует почувствовать каждому, однажды указал Рудольф Штейнер одним из своих духовных намеков, освещающих дальние дали. Он сказал, что итальянский ландшафт устроен так, что при взгляде на него, при встрече с ним наши мысли благотворно упорядочиваются.
К законченному, даже совершенному монументализму, о котором говорит Виктор Ген, добавляется еще и типичная архаичность, которая может воздействовать и поучительно, и импульсивно. Здесь еще один золотой ключик к тайнам итальянского ландшафта, вообще к впечатлениям от Италии. Если им пользоваться правильно и бережно, он может открыть еще и то, что не ждешь.
В этих схематичных наблюдениях за итальянским ландшафтом мы поначалу отметили противоположность между севером и югом, и далее по ходу затронули некоторые другие мотивы. Если спросить, есть ли в стране место, где все упомянутые факторы взаимопроникают, взаимоуравновешиваются и тем самым становятся по-настоящему выразительными, то ответ может гласить: Тоскана.
Не случайно здесь родился Данте, бог итальянской поэзии, создатель и мастер итальянского языка.
"Lingua toscana - in bocca romana" - тосканский язык в римских устах - так говорят сами уроженцы страны, когда хотят дать характеристику хорошему итальянскому языку. И кто-то, разумеется, не из северной Италии, присовокупит еще: "Coll' accento napoletano"- "с неаполитанским акцентом".
В этих высказываниях есть зерно истины. Но где такая страна, в которой затихли споры между областями, и какой иностранец отважится эти споры рассудить?
Лучше попытаемся, насколько это вообще возможно при помощи письменной речи, составить представление о том итальянском языке, который благодаря устам поэтов и певцов стал для нас объективной ценностью.
Приведем без системы и без какой-либо классификации три первых попавшихся примера.
Первый является началом стихотворения Франческо Петрарки:
Solo e pensoso i piu deserti campi
Vo misurando a passi tardi e lenti.
В этом стихотворении, посвященном его бессмертной Лауре, Петрарка описывает, что тщетно пытается бежать от маленького, но могущественного бога Амура.
"Одиноко и задумчиво я брожу в поздний час по далеким полям, ступая тяжело и медленно", - примерно так в вольном изложении.
Другой пример из оперы "Лучия из Ламмермоора":
Tu ch'a Dio spiegasti l'ali,
o bell' alma inamorata,
ti rivolgi a me placata…
"Ты, простершая крылья к Богу, прекрасная, любимая душа, - склонись ко мне и утешь меня…"
Третий пример из старой итальянской арии Алессандро Скарлатти:
Gia il sole dal Gange,
piu chiaro sfavilla
e terge ogni stilla,
dell' alba che piange.
Col raggio dorato,
ingemma ogni stelo,
e gli astri del cielo
Dipinge nel prato.
"Все сильнее и ярче сияет и сверкает уже солнце Ганга; у утренней зари, желающей плакать, оно стирает слезы. Своим золотым лучом оно рассыпает жемчужины на каждый стебель и отражает небесные звезды в поле".
Возьмем из каждого примера по строчке: solo e pensoso, tu ch'a Dio spiegasti l'ali, col raggio dorato. Сразу же бросается в глаза ярко выраженный гласный характер языка. Звуки A, O, I, U даны как носители слова в их чистом качестве; однако и безударные окончания слов гласные. Умножение примеров показало бы, что пять основных гласных, то есть еще и Е, выступают в непрестанной игре в безупречной форме, полностью отражающей их качество. Отсутствуют смешения, известные нам, например, по умлаутам, и даже в связках, кажущихся нам дифтонгами, каждый звук сохраняет своеобразие. "Ai nostri campi ritorneremmo", - здесь "ai" читается не как немецкое "ei", а с волнообразной амплитудой, в которой поодиночке слышатся и "a", и "i": a - i.
Что дается таким строем гласных? Прежде всего музыкальность итальянского языка. Она издавна привлекала внимание иностранцев и сама способствовала тому, чтобы отнести ее к сути всего итальянского. Этот язык, рожденный в ариа и изливающийся в ариа, сам по себе уже наполовину пение. К словам достаточно прикоснуться секретной волшебной палочкой, и они уже становятся песней. Чем южнее мы на полуострове, тем больше это так.
"Ганс, ты уже купил хлеба?" Что в этом предложении особенного, если мы произносим его где-нибудь в средней Европе с оттенком то увещевания, то негромкого приказа. Предложение остается прозаическим, достаточно будничным. "Giovanni - hai gia comprato il pane?" (Джованни, ты уже купил хлеба?). Это надо услышать в гуще итальянской народной жизни, как это, например, кричится через улицу! В зависимости от местности и от силы вступления можно подумать о мелодичном затакте у трубадура. Например, в Неаполе, где диалектично окрашенное благозвучное и печальное "pane" будет уноситься с долгим затихающим минорным резонансом.
Если вновь и вновь непредвзято вслушиваться в этот итальянский язык, то приходишь к пониманию того, что в нем не просто выражается душа, а что он сам собой является непосредственно частью души. Больше, чем где бы то ни было, душа непосредственно дается и воспринимается здесь в речи, при слушании, в перипетиях разговора. При общении между иностранцем и сыном этого народа это выражается в том, что итальянец чувствует обращение к лучшей части его естества, если иностранец заговаривает с ним по-итальянски. Слова родного языка из чужих уст умиляют, умиротворяют его и призывают. Иностранец для слушателя перестает быть "ИНО"-странцем. Он тоже включается в народную душу и получает кредит на всю страну. Даже бродяга и мошенник становятся почтительнее, если при встрече с иностранцем сталкиваются с языком своей страны.
И как же скоро итальянец после наших заикающихся языковых усилий скажет: "Bravo, ma parla bene italiano" - "Браво, Вы хорошо говорите по-итальянски!" Он что, не слышит наших ошибок, или же и впрямь хочет лишь польстить? Нет, для последнего он слишком честен душой, а к своему языку у него слишком тонкий эстетический вкус, чтобы не заметить, если с ним станут обращаться не так. Но в принципе он ведь и не хочет сказать: "Вы хорошо говорите по-итальянски". На самом деле он имеет в виду: "Как хорошо, что Вы говорите по-итальянски!" И даже так: "Вы говорите по-итальянски - о, тогда Вы хороший человек!"
Не следует считать, что так происходит повсюду в отношении чужака, говорящего на языке какой-либо страны. Уже в близко родственной Испании проступают другие нюансы, а есть, например, германские, да и славянские страны, в которых путешественника, неумело обращающегося с языком страны, хотя и будут внешне обслуживать вежливо, но внутренне на него станут смотреть критически. И вместо перехлестывающей симпатии отчетливо проступит тихо отторгающая антипатия.
На юге страны, но скорее все же в Неаполе, чем в Сицилии, уважение к иностранцу и готовность ему услужить может принимать и гротескные формы. Мне пришлось это узнать следующим образом:
Я, например, справляюсь, как далеко до главпочтамта, до "Posta Centrale". Известно, что в поездках по Италии или по Испании больше, чем где-либо еще, поводов справляться об этих важных пунктах, которые приходится посещать почти каждый день.
Итак: "Как далеко до Главпочтамта?"
Спрошенный одно мгновение смотрит на меня и потом с вежливым поклоном говорит: "Per Lei cinque minuti." - "Для Вас пять минут".
Я благодарю и иду строго в указанном направлении. Через пять минут почтамта еще не видно. Десять минут - почтамта опять нет. Четверть часа, двадцать минут, двадцать пять минут - все еще нет почтамта!! В конце концов через полчаса я действительно у цели. Мне пришлось порядком пошагать, и я думаю: ничего себе пять минут! Человек, у которого я справлялся, наверняка плохо ориентируется.
Но случай повторяется. В другой раз называются три минуты, а дорога занимает четверть часа. В следующий раз назвали десять минут - и путь стал бесконечным.
В конце концов я попросил разъяснить мне этот странный феномен одного из хороших знакомых, которых я постепенно приобрел и в Неаполе. Он заулыбался и сказал: "Вежливость, ничего кроме вежливости и чрезвычайного расположения к иностранцу". Я поглядел на него, не понимая. Хочет надо мной посмеяться?
"Нет,- сказал он, смеясь,- конечно, не по-настоящему, а во внутреннем мире неаполитанцев. Вы его спрашиваете. Он на Вас смотрит и замечает: ага, вот иностранец. Едет издалека, измучился, а улицы в Неаполе длинные и неудобные. Не могу же я ему назначить длинный путь. И что же делает мой неаполитанец? Он попросту сокращает путь. Для Вас пять минут. Только из вежливости".
По ходу этих интермедий может возникнуть вопрос, является ли в своей основе оптимистом народ, то обнаруживающий столь буйную силу фантазий, то способный хныкать в связи с какой-нибудь мелочью.
Это вопрос, на который особенно трудно ответить. Как только он встает, то одному приходят в голову десяток и более веселых сцен из страны солнца, но тут же вспоминается и меланхолия, которая перемешивается с дерзостью во взглядах и в голосах неаполитанцев, и тихая жалобная тональность столь многих песенок-канцонетт.
Или что можно сказать по поводу следующего феномена, который можно тысячи раз встретить в итальянской повседневности?
В семье отец должен отправиться в небольшую поездку. За приготовлениями и болтовней начинают опаздывать. Мать напоминала об этом все время, и немного сердится, когда отец с двумя старшими сыновьями отправляется в путь. Она сердита и обеспокоена, потому что опаздывают на поезд. Но глядь, через полчаса сыновья возвращаются и с некоторым торжеством рассказывают, что поезд опоздал на несколько минут, и отец "как раз успел". "Meno male", - говорит мать. - "Не так плохо".
Или: В другой семье Нино - подающий надежды старший - должен сдавать экзамены. Ходят слухи, что он почти не готовился, ходил по кафе и кинотеатрам и курил сигареты пачками. Нино подвергается отцом допросу, но доказывает, что вещи, которые ему приписывают, верны лишь отчасти. Зато никто - говорит он с презрением - не замечал, чтобы я все последние недели вставал тайком утром в четыре и потом болтался до семи. "Meno male," - говорит отец со вздохом облегчения и хлопает сына по плечу. - "Не так плохо".
Или: Биржевой спекулянт, закупивший только что пакет акций "АДМ", слышит ночью, что они существенно упали в цене. Уже спозаранку он бежит на улицу и покупает первые утренние газеты. Дрожащими руками он открывает биржевой раздел и узнает, что речь идет об акциях "АДН", а не о приобретенных им акциях "АДМ". Он идет в ближайший кафе-бар, заказывает себе каппуччино. И пока большая кофейная машина шипит и пыхтит, предвещая уже вкусное наслаждение, он про себя бормочет: "Meno male" - "не так плохо".
Почему итальянец в этих случаях говорит "не так плохо", а не "tant mieux", как француз, "um so besser" или "desto besser", как немец, или "тем лучше", как русский при таких же обстоятельствах? Какое здесь различие, если я говорю "тем лучше" или "не так плохо"?
В первом случае висевшее надо мной большее или меньшее несчастье действительно исчезло, все равно, было ли оно настоящим несчастьем или мнимым. Во втором случае сохраняется некий остаток. Темное облако еще не совсем рассеялось. "Оно" всего лишь "не так плохо". Значит, все-таки плохо. Почему?
Здесь загадка. Ведь по моему мнению мы опять же будем далеки от истины, если станем приписывать итальянцу пессимистический настрой. Примерно так, что для него небо постоянно в темных тучах, и он с минуты на минуты ожидает, что пойдет чумной дождь. Здесь под вопросом еще и другие, весьма деликатные нюансы. Например, такой: у итальянца особенно живое воображение, и все возможные ситуации рисуются ему намного ярче и ощутимее, чем нам. Даже если ситуация преодолена в действительности, она все еще зримо стоит перед ним. Он прочно держится за нее, еще долго остается ее пленником. Своим "не так плохо" он лишь постепенно начинает отходить от того, что для него все-таки является реальностью.
Интересно вспомнить, что Рудольф Штейнер в психолого-педагогических трудах всегда обращал внимание на то, что задержаиваемость на уже прошедшем мгновении есть характерный симптом душевной жизни у меланхолических детей.
Но в "meno male" может проявляться и еще одно. У итальянца из широких народных слоев, как и у представителей всех романских народов юга, в глубине души есть остатки суеверия с оттенком страха. Из древнейших времен веет чем-то вроде боязливой оглядки на демонические силы, которые ведь поблизости и которых не следует раздражать чрезмерной смелостью и слишком большой уверенностью. И потому будь счастлив, что несчастье миновало, но не ликуй чрезмерно…
Когда весь этот стоящий народ со всей его красочностью и драматизмом вот так живо перед глазами, вдруг становится понятным, почему в итальянском языке, а с вариациями еще и в испанском и португальском, слово "стоять" играет столь большую роль. Это важная жизненная функция, отражающаяся в своеобразных формах и в языковой сфере. И таким образом stare - стоять - обозначает длящееся состояние: Например, stava mangiando - буквально "он стоял, кушая", то есть он занимался тем, что не спеша ел. Stavano chiacchierando - буквально "они стояли болтая или сплетничая", то есть у них был продолжительный разговор.
С другой стороны, stare кратко характеризует данное состояние, и при этом, если точно воспроизводить образы, могут возникнуть гротескные или даже абсурдные картины. Stare tranquillo - вести себя спокойно - проходит безо всяких. Но возможна даже и такая форма, как stavo a seder - буквально "я стоял сидеть". При этом конечно же никто не думает о первоначальном значении stare - оно стало чисто служебным словом и просто описывает состояние сидения.
Характерно также, что итальянец употребляет stare в связке с per (для) там, где мы, что показательно, говорим "ich bin im Begriff zu…" - "я собираюсь…". Stava per uscire, stava per scrivere - он (или также и я) собирался идти, писать и так далее. Но буквально это означает "он стоял идти, он стоял писать". У немца начинающееся действие застряло там, где понятие чувствует себя дома, а именно в голове; у итальянца же как человека намного более динамичного и подвижного действие застревает в ногах.
Между прочим, итальянец и в других случаях любит стоять там, где человек "из-за Альп" обычно сидит, например за кофе эспрессо в баре. Почти повсеместно там в этих маленьких кафе есть и столики, но местные ими почти не пользуются. Иностранца, который следует своим излюбленным домашним привычкам и удобно располагается за таким столиком, потом, когда речь пойдет об оплате, подстерегают сюрпризы. Ему тогда предоставят возможность не только внести более высокую плату за его чашку кофе, но и покрыть всевозможные докучливые побочные тарифы. При этом, конечно, считается, что он "обслуживался" хозяином или официантом. Но ничто не изменится, если он собственноручно возьмет свою чашку кофе у стойки или у большого эспрессо-автомата и потом сядет за стол. Стол находится как бы в заколдованном круге, и местные относятся к этому с уважением!
Иные обычаи, разумеется, в больших кафе и кондитерских, но их и посещают преимущественно "верхние десять тысяч" или иностранцы. Человек из народа в них почти не заходит, причем не из-за высоких цен. Сама их атмосфера для него попросту чужая.
Неисчерпаемо богата эта народная жизнь в ее обстоятельствах и в ее возможностях. Все новые черты раскрываются, если ее наблюдать, если срастаться с ней. В заключение мы хотели бы обратить внимание на еще одно такое, что можно было бы назвать недифференцированностью впечатлений от разных мест. Большинство других европейцев четко различают места "духовные" и "светские" и ведут себя в них соответственно. Для итальянца ни духовные места, ни светские не очерчены столь четко, все равно они переходят одно в другое. Еще раз можно вспомнить о "большом доме", которым, собственно, и является Италия.
Совсем плотно к местам, где молятся, проникает повседневная жизнь, придвигается рынок, фамильярная сутолока продолжается даже и в самой церкви. Итальянец не чувствует в этом никакого осквернения святых мест. Быть в гостях у Бога для него дело естественное, и потому он по-детски доверчиво берет с собой примерно все, что ему любо и дорого в мире вещей, приближаясь к Богу со своими внутренними нуждами и заботами.
Так и в могилы древних времен, особенно в египетские могилы, мертвому клались всевозможные предметы пользования и игрушки в разнообразных комплектах. Таким способом умершего снабжали всеми атрибутами земного, когда он собирался начать странствие в невидимое высшее царство солнца. При посещениях какого-либо из итальянских монументальных кладбищ, например, генуезского Кампозанто, поверх ухоженных с пиететом мест памяти и упокоения умерших обнаруживается всевозможная повседневность жизни, развернутая в мраморе. Художественные достоинства проблематичны, но тем сильнее наглядность народной души, с радостью перемежающей потусторонний мир с сиюсторонним.
Если же в таком месте случайно станешь свидетелем только еще происходящего погребения, то получишь впечатления, подтверждающие уже увиденное и уже отложившееся в уме. Траур присутствует и выражается спонтанно, даже стихийно. А чего же еще надо было ожидать от народа, который сам по себе настолько является душой? Но не успеешь оглянуться, а церемония погребения уже превращается в семейную беседу.
В другом месте это может оказаться помпезным театральным зрелищем. Тут даже самые последние бедняки заплатили за себя в чем-то вроде "погребального союза". Жили они бедно и скудно, но теперь их несут к могиле, словно принцев, с лавровыми венками и с развевающимися разноцветными лентами, со звуками тромбонов и с глухим рокотом барабанов. И очевидно, что к духовным корням тысяч и тысяч детских душ относится гордое предвкушение такой сцены, в которой, однако, уже не будешь участвовать сам в качестве обитателя земли.
Но если, с одной стороны, повседневность подходит пожаром к местам коленопреклонений, то, с другой стороны, священное не уходит с рынков. Не только потому, что больше, чем в других местах, увидишь священников в черных сутанах и монахов в белых, коричневых и цветных орденских одеяниях разного рода бодро и весело беседующими с людьми на рынке или играющими с их детьми. Сами продавцы и продавщицы на своем месте и в своей ипостаси остаются верными детьми своего религиозного сообщества. Венок с розами лежит нередко недалеко от кассы, и можно быть уверенным, что между двумя выгодными деловыми операциями еще останется достаточно времени для набожной молитвы.
Такова Италия в суете сует. Когда о ней думаешь, она распадается на ярчайшие картинки. И эти картины больше чем видения, они дышат, они живут, они становятся частью собственной души, собственного бытия. Да, Геббель был прав: в Италию никто не ездит "безнаказанно".
В эту страну всегда возвращаются, и в нее приходят как будто в поисках самого себя.
Испания
Если посмотреть на Пиренейский полуостров в большой перспективе, то в нем можно увидеть предельное сужение на юго-востоке огромного евразийского континента. Продвигаясь от гигантских пространств Восточной Азии в западном направлении, мы оказываемся во все более и более ограниченном пространстве, пока не оказываемся в уплотненной тесноте выдвинутой вперед пиренейской головки.
Что с культурной точки зрения означает этот переход от безграничных далей к такому стесненному и зажатому положению? Мы здесь говорим о свойствах, важных для внутреннего восприятия, а не о переселениях рас и народов, которые никогда не совершались этими путями. Для прежних периодов истории есть своеобразная зависимость между временем и пространством. Где пространства много и оно "растяжимо", там и время такое же. Племена и народы, живущие в широком и в очень широком пространстве, как правило, имеют в душе растительную жизненную силу. Но так же, как у них теряется точное представление о времени, так же отсутствует и четкость контуров сознания. Перемещение в более узкое историческое пространство равнозначно более настойчивой апелляции к силам сознания.
С этой точки зрения можно с определенными ожиданиями начать смотреть на исторические пути испанского, а также португальского народов.
Но как только начинается разговор об усилении и о контурировании сознания в развитии европейской духовной жизни, то оказываешься перед двумя важнейшими течениями: с одной стороны, перед схоластикой, с другой стороны, перед импульсами арабизма. И если ныне в основном видят в силе абстракции одну из предпосылок интеллектуализма нового времени, то все еще задерживаются в арабизме.
И появляется вопрос: есть ли что-то общее с арабизмом у Пиренейского полуострова и особенно у Испании?
Мы пока что совсем не имеем в виду общеизвестные элементарные исторические факты. Поначалу остановимся на географических феноменах. И если мы посмотрим на вещи в достаточно большом масштабе, то тут проявляется и впрямь нечто удивительное. Ученые, смотревшие на континентальные формы не только пытливым и точным, но еще и художественным взором, уже давно обратили внимание на определенное структурное подобие на огромном европейско-азиатском поле. Два больших морских региона обнаруживают сходство внутренней структуры: Средиземное море с одной стороны и Индийский океан с другой. В их протяженности с востока на запад три полуострова с одной стороны подобны трем же полуостровам с другой. Балканский полуостров с островом Крит перед ним соответствует в Индийском океане полуострову Индокитай с Большими Зондскими островами; далее на восток один архипелаг соответствует другому. Апеннинскому полуострову соответствует полуостров Индостан: на севере и тут и там горы с плодородными долинами и руслами рек под ними, а на юге по острову - здесь Сицилия, там Цейлон. И в таком случае Пиренейский полуостров не по мимолетному сходству, а по своей напоминающей прямоугольник структуре получает свое географическое отражение в лице Аравийского полуострова.
Интересно, что посередине этих двух больших систем находятся Сирия и Палестина, откуда, как мы увидели еще во введении, был дан импульс и формированию европейской культуры, и христианству с его силами преобразования земли и людей.
Третье обстоятельство, которое можно увидеть при взгляде на Испанию и Португалию, заключается в том, что Пиренейские горы с культурно-исторической точки зрения представляют собой особенно мощный барьер. Барьер намного более сильный и эффективный, чем перегородка Альпийских гор или сама по себе весьма значимая разделительная линия, обозначенная Вислой между средней и восточной Европой. И проливы Скагеррак и Каттегат или Эрезунд на севере даже отдаленно не имеют такого значения.
Подойдем же для начала к этой перегородке и попытаемся узнать, что мы почувствуем, когда пересечем ее: с той стороны Пиренейских гор поистине начинается новый мир. В какой-то степени мы будем к нему подготовлены, если придем в него через южную Францию, особенно если будем идти вдоль берега Средиземного моря. При всей красоте, которую мы имели возможность увидеть, мы почувствуем, образно говоря, что на языке стало суше. Окунаясь все глубже и глубже в чудесный испанский ландшафт и оглядываясь в своих воспоминаниях на Италию, мы получаем совершенно определенное впечатление. Хотя оно само по себе сложное, мы все же можем выразить его словами: из области акварельных красок мы явились в область красок пастельных.
В ландшафте начинают доминировать коричневатые, коричнево-красные тона, пока мы, проезжая, например, от Аликанте до Гренады, не столкнемся с землей и с камнями по-настоящему красными, которые сами по себе не сверкают, а смотрятся в матово приглушенном свете. Зелень деревьев и молодых посевов выделяется на этом фоне почти что резко. Эти цветовые контрасты отдаленно напоминают впечатления, которые можно получить в Малой Азии или в Африке. И если все позабыть и окунуться в эти художественные впечатления, то в смелом порыве фантазий можно сказать: Испания - это "Малая Африка" с некоторым числом оазисов, из которых самым красивым является Андалузия. Что Африка в любом случае неподалеку, об этом напоминают не в последнюю очередь выделяющиеся здесь пальмы. Мы уже говорили об этом дереве в связи с итальянским ландшафтом и упоминали о том, что даже в Италии оно было чужаком.
Уже в Барселоне появляется ощущение, что пальмы могли бы начинать себя чувствовать хорошо. Пальмовая роща Эльхе по пути из Аликанте на Мурчу по-видимому является единственным местом в Европе, где пальмы смогли создать себе свою домашнюю среду.
Однако и апельсиновое дерево раскрывается в этой стране во всей своей силе и полноте, чего не встретишь даже в Сицилии, где лимонные рощи не имеют ничего подобного себе в других местах Европы. А если из Барселоны приехать на климатически благодатное побережье в Валенсии, то почувствуешь себя перенесенным в волшебный сад. Насколько хватает глаза, темноватые деревья повсюду усыпаны теми "золотыми яблоками", которые являлись обитателям севера в странных сновидениях и которые даже вдохновляли их на походы. Тут и там из отсортированных плодов насыпаны огромные холмы, стоящие на местности своеобразными большими красочными пятнами. На мгновение вспоминаешь о времени цветения - "bloembolle" - в Голландии и о сказочных холмах на границах полей из насыпанных пестрых лепестков цветов.
Апельсиновое дерево может быть символом райской, еще нетронутой жизни, когда оно начинает вновь цвести, хотя в его ветвях еще остались последние плоды. Кто поздней весной едет из Севильи в Кордову, тот в местностях Пальма дель Рио и Хорначуэлос почувствует, что воздух буквально заполнен неописуемо сладким и в то же время чистым апельсиновым ароматом.
Горы повсеместно образуют фон ландшафта, и на них поразительно много следов выветривания. Зубчатый хребет Сьерры остается в памяти с примесью какого-то неслышного и нерешенного вопроса, и поражает выскакивающий почти сразу из земли скалистый монументальный бастион Монтсеррата, над которым руки Божьи потрудились так мощно и проникновенно.
Перед лицом этих и многих других признаков распада в Испании появляется странное, даже уникальное ощущение. Обычно в европейских пейзажах разрушенное производит впечатление просто старой, пресытившейся и уставшей от самой себя культуры. Здесь же в Испании, напротив, впечатление такое, что разрушается что-то, никогда толком и не тронутое. Стихии первобытно-юная и старческая перемешиваются. И настрой не грустный, а даже перед лицом распада молодой и творческий.
Если и в Испании большие города все больше и больше нивелируются и облачаются современной цивилизацией в униформу, во многих частях страны проявляется свежая изначальность, будь то в торговле или в ремеслах. Воспринимаешь человека, хотя бы и бедного и невзрачного, все-таки как господина и мастера в мире вещей. И даже большие города вроде Мадрида и Барселоны не так уж погружены в водоворот нового времени, чтобы не нашлось более спокойных уголков и даже кварталов, в которых можно погрузиться в мир настоящих народных преданий.
В деревне еще соприкасаешься с первобытными способами европейской обработки земли и садоводства, еще можно увидеть инструменты, исчезнувшие в других местах. Точно так же и в виноградарстве господствует здоровая примитивность.
Но прежде всего ремесленник полностью оправдывает свое имя. Он все еще действительно мастерит, а не просто запускает машину.
И этим его мастерской и даже всему его окружению передается что-то от души и от тепла. В наших больших современных городах можно, например, правомерно задать вопрос: а какое, собственно, отношение люди еще имеют к хлебу? Атмосфера, царящая на хлебозаводах, создает лишь механическое или, если угодно, автоматическое отношение. До того, что иногда хочется спросить, в какой степени работающие там люди все еще заслуживают названия хлебопеков. Не лучше и с прочими, которые хлеб покупают и едят: деловитость и бездушие жизни в новое время превратили их в преходящих потребителей, которые по отношению к хлебу, который они держат в руках, не ощущают ничего иного, чем по отношению к мешку стружек. И с качественной точки зрения разница между ними с каждым днем все больше исчезает. Нет, ясно одно: нам не хватает определенных изначальных чувств, наши души недоедают.
Если в Испании спросить о панадериа, то есть о булочной, то и поныне может случиться так, что люди немного подумают, заулыбаются и потом скажут с приглашающим жестом: "А, Вы имеете в виду орно? Орно будет на второй улице слева". Но что такое орно? Очень просто и ясно - это печь в пекарне. И люди сразу же вовсе не говорят о "булочной", хотя и такое слово есть, но оно им недостаточно конкретно. Они ясно представляют себе печь в пекарне и отсылают к ней иностранца. И всего лишь несколько шагов в направлении указующей руки, и нам самим ясно, что такое на самом деле "horno" (следует произносить "орно"), потому что нас встречает проникающий и манящий запах свежего, испеченного на дровах хлеба. Теперь нам не нужен переводчик, не нужен провожатый - наш собственный нос в приятном возбуждении позаботится об остальном.
Но и в самой по себе булочной, где нас поджидает отличный поджаристый хлеб, мы встретим много заслуживающего упоминания. Если там не так много клиентов, то жена пекаря не просто протянет нам хлеб и положит в кассу деньги. Насколько мы понимаем хоть чуть-чуть в языке, она завяжет с нами небольшой разговор. Она поинтересуется, как выглядит наша страна, куда бы она с удовольствием разочек съездила. Но при таких расстояниях и таких ценах все это несбыточный сон! И, может быть, с нами поговорит не только жена пекаря, но в разговор вступит и тот или другой покупатель, который никуда не торопится.
И, уходя из магазина, мы унесем с собой не только булку хорошего хлеба, но и кусочек человечности или, переводя на испанский известное нам уже по Италии: "un poquito de humanidad". А если мы на следующий день вернемся в этот "horno", то нас сразу же узнают и отнесутся к нам не просто как к клиентам, а как к хорошим знакомым, как к "амигос".
Разумеется, сходное с описанным есть и в других местах на свете. И счастье, что еще есть, ведь иначе печальна была бы суета сует и в особенности поездки. Но благодаря присущей детям этой страны ненавязчивой душевности то, что обычно проявляется как отзвуки, здесь проступает во всей полноте красок. И эту манеру нельзя сравнить с ближневосточной, которая кажется еще более интимной. Восточное искусство привлечения к себе иностранца зиждется на всевозможных мелких ухищрениях обворожительной деловитости и является больше древним навыком определенной группы людей, определенного цеха, нежели чем выражением свободных от соображений пользы и цели импровизированных личных отношений.
Бездушие нашей затехнизированной жизни создает еще в лучшем случае типы, а большей частью клише, страндарты и образцы, которые размножаются миллионами экземпляров. Там, где человек стоит больше вещей, мы еще встретим личность со своим собственным лицом, встретим оригиналы. И испанская жизнь дает этому примеры даже в больших городах.
Мы в стране сердечной изначальности. Если во время поездки в Италию мы могли освежить наши органы чувств и еще раз погрузиться в детство, то в Испании мы приходим к юности нашей цивилизации. Юг, описанный Гете почти два столетия тому назад в его "Итальянской поездке", даже в Италии в значительной степени уже исчез. Но во второй половине двадцатого столетия мы еще сумеем составить о нем представление, если поторопимся окунуться в испанскую жизнь.
Как мы сказали, человек значит здесь больше вещей. Несколько меняя смысл, мы можем также сказать: человек значит больше любого учреждения. На этой основе, например, сосед, а прежде всего родственник, являются такой реальностью, которую трудно представить себе в остальном мире. Крещение, именины, не говоря уже о свадьбе, - все это не только семейные события. Это по-настоящему народные события.
В одном из больших городов, кажется, на юге Испании случилось так, что в трамвае один пассажир в отчаянии заявил, что опоздал на прекрасный семейный праздник в честь его восьмидесятилетней матери. Он слишком поздно вернулся с работы. Трамвайный кондуктор смотрит на него, потом на часы и спрашивает: "Вам во сколько надо быть?" Во столько-то и столько-то. "А на какой улице Вы живете?" Там-то и там-то. "Ну, может быть, еще успеете". Короткое объяснение с водителем - и вагон мчится мимо всех промежуточных станций, невзирая на стоящих и отчаянно машущих там людей. Потом он останавливается у желанной "parada": "Пожалуйста, сеньор, быстренько выходите. Думаю, мы почти успели!"
Кто-то склонен принять этот рассказ за один из мифов двадцатого века, но за его достоверность можно ручаться. При этом удивительно, что ведь кондуктор не сказал: "Помашите-ка быстренько "желтому жуку"", то есть одному из популярных и вовсе недорогих такси. Такое было бы ниже его достоинства. Еще удивительнее то, что и прочие пассажиры не ворчали и не злились: "Сеньор, идите Вы к черту, мы сами спешим!" Это было бы против появившегося у них безоговорочного сочувствия. Напротив, они еще и кричали вслед этому пассажиру: "Привет матушке от всей компании и от веселой экстренной прогулки!" И все смеются и довольны.
Насколько здесь сильны родственные чувства, как они помогают и как здесь чувствуют себя защищенными ими, в другой раз проявилось, когда простой испанец из народа услышал разговор о "страховании жизни". Это было в беседе с людьми из средней Европы, которые попытались втолковать ему, какое это прекрасное дело.
"Толком не пойму, для чего это нужно",- сказал испанец, послушав довольно долго. "Ну, представьте себе, умрет молодой еще муж и оставит жену с тремя детьми. И какая будет помощь, какое благо, если ей выплатят страховку за жизнь мужа! А как бы ей пришлось иначе, если нет состояния?"
"Я все меньше понимаю, - сказал испанец. - У вас на севере что, совсем не бывает родственников?"
Для него и, очевидно, для тысяч людей из его народа само собой разумелось, что в таком случае жену примут в лоно другой семьи: в дом ли брата, шурина, своих собственных родителей или родителей мужа или же дальних родственников. В любом случае тут бесчисленное количество возможностей. А по такому случаю все в конце концов будут согласны.
Зерно истины есть и в словах, которые Шиллер вкладывает в уста короля Филиппа II при встрече с маркизом Позой: "Гордым хочу я видеть испанца". Настоящее рыцарство проявлялось в жизни так, что с одной стороны было отмечено достоинством, а с другой преданностью и покорной службой.
Достоинство, отнесенное только к себе, утверждающее и защищающее только себя, могло бы сойти за гордость. Но такая односторонность достоинства испанцу неизвестна. Пусть на вид это может иногда показаться иначе, но в испанском достоинстве есть что-то, переросшее гордость.
В душе каждого испанца сидит рыцарь, который прочно держится в седле, - кабальеро в позе сосиего. Кто в состоянии правильно перевести это удивительное слово? В нем есть нечто никогда не уловимое полностью, как в немецком слове "Gemut". Но среди прочего в нем благородная небрежность, не имеющая в себе ничего фаталистического. Испанец, как и итальянец, движим силами душевных ощущений. Но в движении он больше пребывает в самом себе, он начинает движение от пункта "я". И это умение внутренне "держаться в седле", это проверенное во всех случаях жизни сосиего, - они почти неизменны во всех слоях населения. Они обнаруживаются у бедного пастуха и у торговца на рынке так же, как и у офицера, и даже "gitanos" - цыгане во всей их пестрой нищете тоже получили что-то от этого качества.
Невольно спрашиваешь, как такой замечательный феномен стал возможен. Видимо, он объясняется тем, что на протяжении длинных периодов истории не только рыцарство, но и все население вовлекалось в тяжелую и изнурительную борьбу против арабизма. И крестьянину, и пастуху, и рыбаку пришлось тоже быть небольшим рыцарем - кабальеро.
А может быть, это основано на глубоких спиритических отложениях в душе народа, которые мы хотим обрисовать, когда речь пойдет о граалевских течениях в Испании.
Ясно одно: из-за этой рыцарской небрежности, из-за этого сосиего любая чрезмерная деловитость, чрезмерная практичность и суетливость становится для испанца в такой же степени несимпатичной, как и, например, для англичанина. На пограничной станции Порт Боу мы наблюдали за одним из тех ни с кем не сравнимых, насколько скромных, настолько же и любезных носильщиков, которых называют "mozos". Этому "mozo" надо было отнести чемодан итальянки в вагон стоявшего на границе поезда Порт Боу - Барселона. Испанские вагоны из-за большой колеи едва ли не просторнее русских. Но очень уж взволнованная итальянская синьорина, очевидно, нигде не могла найти столько места, сколько считала для себя необходимым. Ни в одном купе ей не нравилось. Не успевал тяжелый чемодан оказаться наверху в багажной сетке, как его опять надо было снимать. С квохотом наседки дама гоняла бедного "mozo" туда-сюда, а он молча и с неизменной вежливостью героически занимался тем, чтобы услужить ее прихотям и капризам. Когда чемодан, во что уже никто и не верил, все же остался погруженным среди бесчисленных пакетов, "mozo" получил в добавку к нищенскому тарифу, по которому он был нанят, еще более нищенские чаевые, маленькую пропину.
Это не помешало ему поблагодарить вежливо, хотя и сдержанно. Но мы видели и слышали, что при выходе из вагона он поднял руки к небу и процедил сквозь зубы: "Эта женщина меня довела!" _Esta mujer…
Так случай представил небольшой материал для сравнительных исследований двух столь родственных в остальном народов.
Семана Санта
В первый раз на страстную неделю в Испании нас занесло не в такое блестящее место, как Севилья, где происходит своего рода театральное действо перед международной публикой. Мы всего лишь в одном из бедных рыбацких кварталов Валенсии. Но мы все равно полны ожидания. Мы слышали о том, насколько валенсийцы искусны в применении своих фаллас - больших фигур из папье-маше, которыми в день святого Иосифа все восторгаются и восхищаются и которые потом сжигаются. Сегодня же, вечером пятницы страстной недели, предстоит праздник более серьезный и прочувствованный. Улицы в рыбацком квартале, по которым должна пройти процессия, готовятся уже с полудня. Поставлены простые скамейки, а в других местах и помосты. Можно оплатить места предварительно. В преимущественном положении жители домов на улицах, по которым пройдет процессия. Для них красивое впечатляющее зрелище бесплатно, да еще и в таких особенно спокойных и хороших для обозрения условиях. Балконы этих домов празднично украшены. Ковры, видимо, являющиеся ценностью для этих не щедро одаренных богатствами людей, свисают на улицу. Владельцы балконов пригласили гостей. Можно предположить, что и тот или другой иностранец обеспечил себе за денежный взнос место на этих своеобразных смотровых платформах.
Уже за часы до начала процессии улицы, по которым она пройдет, закрыты для автомобильного движения. Процессия начнется с началом вечерней зари. Еще светло, но уже заняты почти все скамьи и ряды стульев. Пришедшие чуть позднее иностранцы препровождаются распорядителями на еще оставшиеся места. Удивительно, что это происходит спокойно и без трений. Ведь во многих местах приходится протискиваться через плотную толпу. Но люди не только вежливо освобождают место, но и, если требуется, помогают распорядителям отыскать места. Вообще мы рады поведению этой пестрой скученной толпы. В ней нет ничего слишком шумного, не говоря уже о грубом. Поведение людей ни в коем случае не скованное, они беседуют весело и непринужденно. Но интенсивность разговора все время спадает. Кажется, чувствуешь, что люди уважительно и даже благоговейно ожидают чего-то, что является одним из важнейших моментов в их жизни. Иногда разговор как будто нарочно прекращается. Кто-то полностью предался своим мыслям. У него повод "ensimismarse" - погрузиться в себя, как это великолепно называют испанцы. Теперь солнце закатилось, теплая, коричневато-золотая мгла легла на толпу, и лица становятся нечеткими. Тем яснее вырисовывается наверху сияющий голубой свод южного неба. Люди все более замолкают, и видно, что они напряженно вглядываются в конец улицы наверху, расположенный от нас слева. Уже скоро.
Наконец, издали слышится глухое, равномерно повторяющееся начало барабанной дроби. Начало процессии повернуло на улицу, и она скользит к нам огромным разноцветным бантом. Еще прежде, чем идущие впереди поравнялись с нами, барабаны внезапно замолкают. В торжественном марше начинает озвучивать серьезную, подходящую для страстных дней мелодию духовой оркестр. Играется наполовину траурный марш, наполовину гимн. И нам предстоит скоро узнать, что эта священная жалобная и проникновенная мелодия будет основным мотивом всего вечера. Потому что, постоянно сменяемые столь же многочисленными отрядами барабанщиков, духовые оркестры один за другим заводят все тот же тягучий мотив, под который уносится крест с распятым на нем. За величавостью впечатлений мы не смогли сосчитать, сколько же оркестров прошествовало перед нами, но, наверно, их могло быть до двадцати.
Группы движутся не обычным будничным шагом, а медленно проходят в ритмическом прерывистом марше процессии. Сразу за духовым оркестром несется огромный помост, на котором воздвигнуто распятие. Толпа мужчин несет этот явно немалый груз. Бросается в глаза, что для этого подобраны отнюдь не самые молодые и сильные. Заметны и более щуплые, и мужчины постарше, даже совсем старики. Сразу становится ясно, что здесь речь не идет о группах, организованных кем-то. Здесь добровольно подобрались люди, которые считают эту тяжелую работу еще и искуплением.
И как раз облик более хрупких и слабых, почти что согнувшихся под тяжелой ношей, с выразительной ясностью напоминает о несущем крест избавителе. Чувствуешь себя перенесшимся на Виа Долороза в Иерусалиме, а со звуками марша-гимна перемешиваются чувства, которые нельзя описать словами.
Повсюду, где проходит группа с распятием, мужчины снимают головные уборы, люди благоговейно кланяются и приветствуют в этом образе то святое, что для них стало явью.
И теперь в течение двух часов разворачивается действие невиданной красочности и красоты. Пока музыка отдаляется и затихает и вновь становятся слышны барабаны, появляются идущие "hermandades". В длинных, острых, похожих на сахарные головы капюшонах, прикрепленных к одеяниям и оставляющих всего две маленьких прорези для глаз, они кажутся непостижимыми, таинственными. Облаченные в белые или черные одеяния, они напоминают судей фемы. (8) Каждая группа в одеждах одного цвета. Впечатление от цветов в результате усиливается, душевное состояние становится сильно акцентированным. Сменяемые другими группами, "hermandades" в течение вечера еще покажутся в красных, розовых, фиолетовых, голубых, золотых и пурпурных одеждах. И все время это впечатление средневековой замкнутости, полностью исчезнувшего под облачением лица и глаз, испытующе и пронизывающе взирающих с высот высшего знания. Материал их одеяний, видимо, тонкой работы. Цвета яркие и живые и к тому же впечатление такое, что они соотнесены друг с другом с художественным вкусом.
Эти "hermandades", то есть братства, уже ничего не имеют общего со старыми "santa hermandad" - оборонительными братствами городских общин против нападений знати. Но родившийся в народе определенный дух благородства они все еще воплощают. Цели теперь перед ними религиозные, могут быть и филантропическими. Отчасти это группы, оформленные по образцу ремесленнических гильдий, они целый год готовятся к этому торжеству, к "семана санте". Зачастую среди них есть и совсем уж бедные. Но совместная экономия, организация и распорядок приводят к тому, что в решающий час каждый, даже самый бедный из них может шествовать достойно и даже благородно.
Вот подходит еще одна группа барабанщиков и трубачей. Среди барабанщиков мы обращаем внимание на мальчика лет двенадцати, который с воодушевлением и с большим чувством ритма работает на своем инструменте. Он так увлечен своим занятием, что весь мир вокруг, кажется, для него не существует. И вновь глухая, тягостная и в то же время столь теплая мелодия трубачей.
И вновь hermandad. Синева одеяний начинает сливаться с сумерками. И вот отдельно следует роскошно одетая фигура воина. Из шепота толпы, дающей все необходимые комментарии, мы узнаем, что это Пилат. Его наемники следуют за ним по пятам.
В заключение, конечно, опять что-то особенно благоговейное, потому что уже издали видны поклоны и смиренные приветствия, как было с группой распятия. Это роскошно одетый образ Santa Virgen - девственной богоматери. Конечно, здесь ее одежды не сверкают чистейшими драгоценными камнями, как нам потом довелось видеть в Севилье. Но ниспадающее платье роскошно, и корона просто и благородно смотрится на голове, сделанной с благоговением и с художественным вкусом.
Далее следует группа, облик которой удивляет и даже поражает нас, прибывших из-за Пиренейских гор. Это одетые в черное женщины, ищущие искупления; они идут босиком. Они не специально костюмированы, а идут такими, какие они в повседневности. Некоторые из них обвили тела цепями, которые они волочат за собой. Есть среди них и нежные создания - женщины, которые, видимо, не знают ни тяжкого труда, ни лишений. Но сегодня они примкнули к процессии в рыбацком квартале и взяли на себя тяжелую работу.
За ними, как бы символически олицетворяя собой предыдущую группу, следует кающаяся Мария Магдалена. Этот образ мы слишком часто видели у великих художников с распущенными белокурыми или золотистыми волосами. И потому нелегко узнать ее в черном флере. Тем убедительнее поза и все поведение этой, видимо, двадцатилетней молодой девушки. То же относится и к идущей за ней святой Цецилии. Девочке, которая ее представляет, двенадцать, самое большее тринадцать лет. В светло-голубом платье с белой накидкой, она похожа на ангела. Прекрасно в ней и почти во всех других женских обликах то, что о каких-то преднамеренных или продуманных жестах нет и речи. Здесь освежающая душу естественность и простая самоотдача высшему, которому в этот момент готовы служить всем существом с головы до пят. Не видно ни малейшего следа рефлексивного самолюбования. И как раз поэтому от этих образов веет невыразимой привлекательностью.
Вновь барабанщики и трубачи. Они отдают своему священному ремеслу столько силы и даже мощи, что это предъявляет серьезные требования к нашим изнеженным ушам, не привыкшим к подобным впечатлениям. Но если и гудит в ушах, так что с того? Сердце вбирает эту своеобразную страдательную мелодию в свои самые тихие уголки, и там она продолжает плыть в чудесном золотом потоке.
Опять hermandad в одеждах цвета, которого еще не было. Потом группа апостолов спасителя. А теперь - оживленный гул проходит по рядам зрителей - совсем маленький пятилетний Иоанн, ведущий ягненка. Картина умиляет чистотой и непосредственно связывается с другими образами и прообразами, которые мы носим в душе.
Эти сцены священного народного действа под названием "семана санта", поставленные народом, еще неиспорченным духовно, воочию и впрямь переносят нас в Палестину. Кажется, пролистаны страницы огромной книги Евангелия и образы, о которых вещает Слово, вдруг выступили из своих рам, обрели плоть и кровь и соблаговолили быть с нами и вокруг нас.
В прежние времена, когда умение читать и писать еще было мало распространено, в разных странах Европы издавались особые народные образцы Библии, которые назывались "Библией для бедных". Такая "Библия пауперум" состояла главным образом из картинок. Открыв ее, можно было увидеть слева картинку из Старого завета, справа из Нового, а большей частью картинки из Евангелия и Апокалипсиса. Картинки подбирались так, что символически соотносились между собой. Если, например, слева была картина встречи Абрахама и Мельхиседека, в которой центральное место занимали хлеб и вино, то справа можно было увидеть, как Христос начинает причастие. Главное же в любом случае было то, что воздействовали не слова и понятия, а картины.
С этой стороны процессии "семана санты" были чем-то вроде "библии пауперум", переведенной на язык пластики и цвета с намеком на драматическую постановку.
Как сказано, эта процессия в Валенсии продолжалась в течение двух часов. Мы слышали, что во многих местах в течение "семана санты" процессии, сменяя одна другую, продолжаются все двадцать четыре часа. Но хотя у нас и была возможность увидеть впоследствии много других, более помпезных представлений, ни одна из них не произвела такого сильного впечатления, или лишь только приблизилась по своей завершенности к этой процессии в рыбацком квартале Валенсии.
И зрители казались не столько любопытной публикой, сколько молчаливыми и задумчивыми участниками. Если, например, в Севилье кишит разряженными женщинами, то здесь женщины и девушки были большей частью в простых платьях. И в таких душевно-естественных и культивируемых без всяких этикетов предпочтениях населения ничего не менялось за всю процессию.
Когда прошли последние группы, был уже поздний вечер. Множество зрителей разошлись с той же выдержкой и спокойствием, которые были заметны при святом действе. И перед трамваями и автобусами, отвозившими в город немалую часть публики, не было никакой суеты и давки. Можно было даже заметить, что по отношению к иностранцам, которых повсюду узнают очень скоро, вели себя особенно почтительно.
Когда мы, повернув за угол, еще раз посмотрели на опустевшую улицу, которая только что была полна удивительными образами и картинами, нам показалось, что все было во сне. Но в одном из таких редких снов, которые дают заряд бодрости на дни и даже недели. И отзвуки торжественного гимна-марша в исполнении духового оркестра провожают нас в поездке по Испании и после пасхальных дней.
Ощущения такой силы и чистоты, какие мы получили в Валенсии во время "семана санты", в последующих поездках посещали нас всего несколько раз. И то, что это случалось, что новые встречи могли волшебным образом вновь оживить те прежние картины, означало, видимо, что в самой субстанции, во внутреннем аромате переживаний было какое-то родство.
Один раз это было, когда мы в скалистой крепости Монтсеррата слушали в монастыре хор мальчиков Эсколании. В пении этих мальчиков, как и в гимнах и в культовых ритуалах живущих там наверху монахов, есть что-то нетронутое, настоящее. Достаточно лишь послушать ежедневную монсерратину или почувствовать благоговение, с которым исполняются первые же слова в гимне "O Domine, Jesu Chruste".
И еще раз мы почувствовали страстное благоговение при посещении самобытной скульптурной группы "Христос под фонарями" на площади Де лос Долорес в Кордове. Эта площадь несколько удалена и обычно невзрачна. Можно только отчасти догадаться, почему именно здесь появилось место духовного прибежища, одинокого собрания. Фонари с их изогнутыми, будто бы от боли согнувшимися, усеянными шипами подставками окружили Christo de los Dolores, Христа- мученика, словно тернистой оградой, на которой собирались раскрыться почки роз. Ни один из тысяч столбиков с распятием у места гибели людей на прекрасных дорогах альпийских стран не мог произвести впечатления, подобного этому. Полностью забываешь о гротескности самой затеи представить божественного мученика в таком окружении фонарей. Чувствуется только движение сжавшейся боли, из которой при всем одиночестве должно что-то расцвести. И, оглядываясь в душе на два столетия, видишь закрытые и закутанные лица тех, кто прокрадывался ночью к этим фонарям, дабы совершать здесь исповеди и вести с глазу на глаз беседы, неподсудные каким-либо официальным инстанциям. И одновременно возникает чувство, что ни один из искавших по-настоящему не ушел с этой площади, не найдя чего-то, невыразимого словами.
Но вплоть до непосредственных образов перед глазами мы вспомнили о Валенсии, когда в другой год ночью с пятницы на субботу страстной недели стояли на эстраде перед возвышающейся церковью Святого Варфоломея в маленьком прибрежном поселке Ситгесе. Хотя и были видны некоторые звезды, но в остальном ночь набросила на все вокруг свое теплое темное покрывало. Глядя вниз со стороны похожего на замок старого города, мы лишь едва различали идущую вдоль побережья дорогу и прилегающие к ней дома. Была видна лишь белая пена, которую поднимали накатывавшиеся на берег волны. Слева от нас мы непосредственно слышали глухой прибой, когда волны мощно и все же бессильно разбивались о выходящий прямо к морю фасад здания Сан Феррата.
Кроме нас на эстраде собралась только небольшая группа ожидавших из числа местных жителей. Одетые в черное женщины, молодые люди обоего пола и даже несколько "capuchones", то есть носителей тех островерхих капюшонов, о которых уже шла речь. Нам было непонятно, для чего они сюда забрели. Процессия должна была двигаться из нижнего города к Святому Варфоломею.
Она откладывалась несколько раз на четверть часа. Но наконец-то наше терпение было вознаграждено. Мы увидели, что вдоль берега, выделяясь все более отчетливо, движется колонна людей, несущих, видимо, свечи или свечи с защитными колпачками от ветра. Можно было различить множество вспыхивающих и исчезающих точек. Непроизвольно вспомнилась сцена из сказки Гете о зеленой змее и прекрасной лилии: о шествии, ведомом беглыми огнями к большой реке. Когда процессия подошла ближе, от свечей стало достаточно светло, так что там внизу у берега стало видно не только белую пену прибоя. Словно освещенная магической рукой, перед нами предстала и колыхавшаяся морская даль, показавшаяся политой легким пурпурным оттенком.
Все казалось картиной, созданной рукой мастера. Вскоре голова колонны достигла лестницы, которая вела вверх к старому городу. Тем самым она заметно приблизилась к нам. Мы узнали некоторые типичные образы, которые видели в Валенсии, но здесь доминировал черный цвет. Незабываемые краски тех образов являлись, когда все происходило там далеко внизу на берегу бесконечного моря.
И мы все более и более убеждались, что действа и отдельные сцены "семана санты" могут являться еще с сотнями других нюансов, заслуживающих многих исследовательских экспедиций.
Коррида
Как иностранцев, нас удивляет то, что как большие ежегодные процессии, так и начало корриды - боя быков - выпадают на пасхальные дни и что коррида следует сразу же за процессиями. Обычно ее начало назначается на первый день празднования пасхи. Здесь может появиться внутренняя настороженность. Кто-то, видимо, задает сам себе вопрос: пасха все же праздник воскресения спасителя мира, искупителя страданий всех существ; как же в такой день может быть место для игры явно жестокой, в которой падают жертвами быки и лошади? А другой может сказать: разве только что во время "semana santa" меня не тронули набожность и сострадание моих испанских друзей? Как же эти же самые люди могут ликовать при виде страданий животных?
Чувства такого рода близки и потому слишком уж понятны. Но обычаи и нравы народов восходят к древним традициям, которые неразрывно связаны со всей судьбой, с историей и с естеством этих народов. Мы обязаны остерегаться высказывать поспешные суждения и вообще переносить наши мысли и чувства на то, что имеет совсем другие корни.
Исторические исследования последних десятилетий научили нас приглядываться почти во всех странах к тем таинственным мистическим обрядам, которые в дохристианские времена управляли судьбами людей и на целый год точно определяли их внешнюю и внутреннюю жизнь. Были летние и зимние обряды, и такие, что проводились весной, в те недели совсем еще юной весны, когда окончательно определяется победа солнца над тьмой. По праздничным улицам, протянувшимся в точном соответствии с космическими закономерностями, с космическими ориентирами, люди шли длинными процессиями к культовым местам. А с культом с незапамятных времен было связано жертвоприношение.
Можно считать корриду - бой быков - не просто отзвуком игр в римских амфитеатрах. Моменты, напоминающие о римском амфитеатре, в ней, безусловно, есть. Но в ней есть и совсем другие моменты. В какой-то степени они могут быть отгаданы, и именно они отнесли начало боев быков как раз на период пасхи.
Мы хотели бы потом высказаться о возможных скрытых причинах. Но вначале предадимся непосредственному восприятию.
В полдень пасхи мы отправляемся на большую арену боя быков в Барселоне на площади Де лос Торос. Через портье в отеле мы уже обеспечили себе подходящие места. Места разделены на две большие категории: "sol" - солнечная сторона и "sombra" - тень. Но, в отличие от социальной жизни, здесь места в тени предпочтительнее. Вначале мы входим в большой холл. У входа на большие каменные ступени билеты контролируются один раз. Тут стоит человек, который выглядит весьма деловито и продает нам за несколько песет значки с эмблемами боя быков. В действительности это частный предприниматель, обеспечивающий себе таким способом небольшой побочный заработок. Подойдя к нашему ярусу, мы видим, что большинство мест еще не заняты. Еще рано, а большая часть испанской публики имеет привычку опаздывать. Здесь с точностью наоборот нежели в поездах, которые на исходных станциях длинных маршрутов заполняются за час или полтора часа до отправления. Мы спускаемся на несколько ступеней к нашим узким местам на холодном камне. Не очень-то уютные места здесь предоставляют, причем это еще лучшие на всей арене. Но на что только в Испании нет службы помощи? Мимо уже идет человек, дающий напрокат подушку за мизерную плату в одну песету. Так все же можно устроиться поудобнее.
Пока оглядываешься, и противоположные места огромного амфитеатра почти расплываются в глазах, невольно вспоминаешь о римском Колизее. Но скоро тебя вновь вырывают из античных видений: огромные рекламные надписи и плакаты напоминают о современности. Самые различные фирмы явно спекулируют на том, что имеют здесь непревзойденную по эффективности возможность рекламы своих товаров. Видишь рекламы различных вин, трикотажа, чулок. Особенно блистает величиной и яркостью слово нирвана. Местных оно наверняка должно побудить к каким-то покупкам. Нам, непосвященным иностранцам, оно лишь напоминает о своем изначальном восточном значении. Нам приходится улыбнуться тому, что именно это слово о растворяющейся действительности читается над местом, где скоро развернется ожесточенная, страстная и боевая действительность.
Ярусы теперь заполняются весьма быстро. По арене проезжает одна из служебных машин. Покрытие еще приглаживается в разных местах, тут и там его поливают водой. В секторе слева от нас целая толпа матросов с американского корабля. В середине между ними несколько мест свободно. Но уже через несколько минут одетой во все красное испанке указывают на одно из этих мест. Она садится, поначалу не смотрит ни влево, ни вправо и кажется красной гвоздикой в голубом садовом букете. Матросы не задерживаются с замечаниями, которые предположительно остаются непонятыми. И сидящие поблизости от нас местные тоже наблюдают за происходящим. Один восклицает: вот это как раз для корриды - красное платье! Что, если сеньорита попадется на мушку быку вместо красного чулоса на арене!... Смех распространяется волнообразно, потому что не слышавший слов понимает шутку глазами.
Но тут начинают играть трубачи, и начинается торжественный обход арены участниками боя - так называемая квадрилла: впереди матадоры в их нарядных красочных облегающих одеяниях, за ними другие участники на лошадях и пешком. Едущие на защищенных доспехами лошадях похожи на рыцарей средневековья: это пикадоры, которые могут быстро передвигаться по всей арене и со своими копьями вступят в бой на определенной его фазе. Ведь все строжайше расписано по правилам традиции нескольких столетий.
Во время обхода раздаются непрерывные аплодисменты. Потом каждый актер занимает свое место. Ключ для открытия "torril" вставляется, дверь распахивается, и бык выходит из своего узкого загона. Он освоился с ситуацией на удивление быстро. Он стоит с опущенными рогами и в следующий момент бросится, никто не знает на кого.
По программе его теперь должны раздразнить вышеупомянутые "чулосы" - взмахами своих ярко-красных одежд, разными другими годами испытанными приемами. Но у быка на уме другое. Он мгновенно пересекает арену и под сумасшедший шум массы людей обрушивается на одного из пикадоров. И прежде чем тот, видимо, новичок, находит время защититься, его лошадь уже пропорота рогами. Так называемые доспехи едва ли давали хотя бы поверхностную защиту, лошадь шатается и падает. Зрители издают свист неодобрения. С трудом удается чулосам оттащить быка от его жертвы. Но с этого момента все идет по плану. После чулосов в дело вступают пикадоры, которые опять же сменяются бандерильеросами, вонзающими быку в затылок украшенные флажками копья. Бык, постепенно истекающий кровью, носится туда-сюда, повсюду натыкаясь на красный цвет. Качающиеся в ранах бандерильосы явно приводят его в ярость. Но, с другой стороны, силы его уже изрядно измотаны, когда матадор с мулетом и толедовским клинком приступает к последнему действию.
Атмосфера на арене во время всех этих событий заряжена до предела. Каждый прыжок быка, каждый виртуозный поворот фехтовальщика производит действие электрической искры и передает заряд всем и каждому. При этом и бык рассматривается как полноправный партнер и получает положенные ему аплодисменты, если показывает себя смелым и агрессивным.
Если все это время наблюдать за испанской публикой, то впечатление такое, что ее в первую очередь интересует мужество, ловкость, рыцарские начала игры. То, что для народа Италии в опере значат арии, то же самое здесь заключается в неожиданном ударе или прыжке, в отважном парировании. Все остальное несущественно, и на него почти не обращается внимания. На том, что относится к жестокой стороной игры, испанец в своих взглядах не задерживается, он все это воспринимает наивно, еще дремлющим сознанием человека средневековых рыцарских времен. Тут и там, кажется, добавляется и спортивный дух двадцатого столетия, но этот момент явно не решающий.
Для нас, явившихся "из-за Пиренейских гор", трудно перевоплотиться и посмотреть на вещи этим совсем иным способом. Наши естественные чувства подводят нас к тому, чтобы считать главным то, что для других побочное, и вообще анализировать все мыслями современного человека.
Насколько сложен состав населения Испании, сформированный из разнообразнейших элементов, настолько же сложной является внутренняя структура того, что сегодня запросто проступает в виде корриды. Помимо элемента римских зрелищ в амфитеатрах, помимо только что упомянутых отголосков рыцарских времен во всем этом действии участвуют, возможно, и отзвуки культа Митры. В этом культе бык выступал символом опрокидывающих человека чувственных сил. Убиение его символизировало победу добра над злом, света над тьмой. Вследствие чувств именно такого рода в дохристианские времена обряды Митры связывались с победой света в период пасхи.
Матадор, вонзающий сталь в шею быка после короткой обманчивой игры со своим ярко-красным флажком мулетой, сам того не подозревая, является последним представителем давно ушедшего времени. Он вправе убить быка только в тот момент, когда тот действительно нападает. Может быть, в этом жестком условии можно увидеть и нечто большее, чем просто рыцарский жест.
Когда убитого быка увезли на повозке, по традиции запряженной мулами, мы поднялись со своих мест, чтобы с нашего возвышенного места еще раз обозреть все действо в целом. Заметна масса характерных движений, и можно догадаться, до какого драматизма может дойти игра. Не случайно она вдохновила в юные годы Пикассо на замечательные эскизы, объединенные циклом "Тавромахия".
Два круга в основе своей той же самой, но с бесчисленными вариантами игры дали нам увидеть и подумать так много, что мы решили поехать в Тибидабо и провести там остаток дня.
Мы вновь наслаждались великолепным общим видом на большой город у моря, и обрели полное внутреннее спокойствие, лишь когда увидели на другом склоне горы зубья Монтсеррата на фоне голубоватых облаков.
Феномен Лопе де Веги
Одна из многих заслуг Карла Фосслера в том, что он обратил внимание на раннее появление в испанской литературе мотивов одиночества. Но одиночество можно познать лишь тогда, когда раскрываются глубины "я", когда ощущается пропасть индивидуальности. Человек прежних времен ощущает себя в плоском измерении бесконечного эпического действия. Только впоследствии он уже чувствует себя в драматизме судьбы и истории. Эоловая арфа лирики начинает звучать, лишь когда на нее повеет дыханием пробуждающегося "я". Это "я", познающее в своем уединении доселе неведомые силы, испытывает и все страхи одиночества. В процессе дальнейшего развития одиночество приводит к новому отношению к Богу, к новому отношению к людям. Общество, которое ищет человек нового времени, может быть построено только из одиночества.
Джакомо Леопарди, стихотворение которого об "одиноком холме" мы упоминали в связи с трансапеннинской Италией, был в конце концов дитя начинавшегося девятнадцатого века. Он был современником лорда Байрона, Александра Пушкина. Мы не очень удивимся, что в его творчестве одиночество поет свою песню. Но Лопе де Вега жил с 1562 по 1635 год, то есть при переходе к семнадцатому столетию. Тридцатилетняя война в средней Европе еще не окончилась, когда он умер.
Мы уже приводили его стихотворение об одиночестве, когда совершали небольшой экскурс в сферу языка. Здесь чувство одиночества в классической манере соотнесено с его самой глубокой основой, с основой "я".
Вспомним еще раз эти волнующие стихи: (7)
A mis soledades voy
De mis soledades vengo,
porque para andar conmigo
me bastan mis pensamientos
Одиночеством к людям гонимый,
Прихожу к одиночеству снова -
Ибо, кроме моих размышлений,
Не встречал я друга иного.
Как необыкновенно выразительно описано несколькими словами величие молодого ощущения самого себя: ведь прихожу я от себя самого, а это далеко, так далеко. Но гениальность Лопе де Веги предвосхищает в этом стихотворении еще и трагизм развития души, о котором даже в девятнадцатом столетии еще не имели соответствующего представления. Только двадцатое столетие подвело нас к этой трагической истине. Оно показало нам, насколько безнадежно переплетаются между собой сугубо психологические и сугубо физиологические взгляды на человека; показало, что только в свете духовных познаний о науке тела, в свете спиритической соматологии можно освободить облик человека из роковых переплетений. В середине девятнадцатого века жил не один великий человек из тех, про кого можно было бы сказать, что они "пленники своего тела". Мощно пылал в них огонь души, который отражался удивительными яркими отблесками, но это был только огонь души, который истощался, когда поглощал тело. Чтобы назвать только одного из них, достаточно вспомнить великолепие и страдания Винсента ван Гога. Лопе, сочинявший уже в двенадцать лет комедии, в возрасте семнадцати лет работавший над "Доротеей" и оставивший после своей смерти почти неисчислимое множество произведений, написал стихотворение, в котором можно почувствовать итог всей его богатой жизни. Стихотворение подкупает своей простой, даже голой человечностью и своим настоящим испанским духом. (9)
Познанья страсть! Ты средь страстей душевных
Всех ненасытнее, и я, служа тебе,
Наукам и высокому искусству, -
Так много лет трудился беспокойно.
И что ж я заслужил, что мне осталость?
Не истину нашел я, а виденья,
Не ясный свет, а лишь густой туман.
И для любви и веры сердце пусто.
Насколько же тщеславно ты, познанье!
О, Боже мой, направь мой взор на крест,
И в нем увижу я и мудрость, и искусство.
Но на кресте ты обретешь ли знанье?
Да! Ты сам познал себя лишь на кресте,
Христос, О мудрость вечности и книга жития!
Эту исповедь жизни великого человека невозможно прочитать, не будучи потрясенным; и невольно вспоминается "Христос де лос долорес" в Кордове и безмолвные беседы, которые в одиночестве велись с ним.
Если подобные впечатления будут отдаваться эхом вновь и вновь, то в душе появляется и еще один образ. Понимаешь, что стал свидетелем священного действия, прикрытого целомудрием: "я" во всей своей покорной раздетости предстала перед божеством и склонила пред ним колени.
Это рано о себе заявившее рождение "я" придало испанцу совершенно особое отношение к действительности. Он никогда не примет ее серой, с таким примерно настроением, с каким в постирочный день хлебают ложкой картофельный суп. Со стороны внутренней его восприятие поднимается в сферу мистического, со стороны же внешней он не может поддаваться плоскому реализму, он доходит до карикатурного, до гротескного, но принимает и то, и другое с человеческим теплом.
Ангел и иерархи с одной стороны - домовой и демоны с другой, и все одинаково близко.
Размышляя обо всем этом, мы уже можем предвидеть, каким должно быть творчество Эль Греко, Веласкеса, Гойи: каждый из них по-своему посланник суверенной индивидуальности и каждый все же глубоко погружен в национальный колорит Испании.
Чаша Грааля
В начале мы уже указывали на подмеченное географами структурное родство между Пиренейским полуостровом и Аравийским. Кажется, этим была предначертана часть истории. Ведь фактически не только духовный облик Испании, но и многое от своеобразия ее души сформировалось в борьбе против арабизма, продолжавшейся столетиями. Окончательная победа над арабизмом стала явно не только краеугольным камнем иберийско-испанской истории, но и вообще истории всемирной. Битва при Гренаде в 1492 году в полном смысле этого слова открывает двери в новый свет. Ведь лишь после этого успеха "их католические величества" - los reyes catolicos - Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская - могут приступить к тому, чтобы помочь генуэзцу Колумбу в осуществлении его дерзких планов. На исторической сцене происходит масштабная замена кулис: минареты исчезают, а дремучие леса Америки проступают из сумерек.
Сказание старых времен постоянно твердило о том, что неподалеку от мавританского замка Клингсора возвышался храм Грааля. Видимо, и впрямь, по следам иссыхавшего арабизма, которые мы можем отчетливо видеть в истории, повсеместно последовало питавшееся чудесными источниками течение Грааля, следы которого ныне стерты. Но если даже следы и стерлись, то все же что-то от свежести источников все еще ощутимо там, где когда-то действовали граалевские силы.
В образе Сида Кампеадора сказание и легенда пророческим образом воплотили все средневековые доблести, которые исторически лишь намного позднее привели к победе над арабами. Валенсия славится тем, что она является городом Сида. Видимо, не случайно в катедрале Валенсии хранится священная чаша из тех столетий, в которых, как можно предположить, оказывала свое действие легенда о Граале. Изображение этой чаши есть в книге Вальтера Иоганна Штейна "Всемирная история в свете легенды о Граале", том 1 "Девятый век" (издательство Ориент - Оксидент, Штуттгарт, 1928).
Согласно легенде, чаша была той самой, которую Христос на последней обедне протянул своим апостолам. В третьем веке, во времена папы Сикстуса II, чаша была среди церковного имущества, которым заведовал дьякон Лаврентий. Во время гонений христиан при императоре Валериане Лаврентия принуждали отдать римлянам благоговейно хранимую чашу. Лаврентий отказался отдавать ценность и умер мученической смертью. Чаша впоследствии была доставлена в Испанию и поначалу попала в монастырь Сан Хуан де ла Пенья. Оттуда король Мартин приказал перевезти ее в Валенсию.
Автору неизвестно, извлекается ли этот ценный сосуд чаще, чем раз в год. Но в святой четверг ему довелось присутствовать при совершении обрядов, в центре которых была чаша. В том, как большая группа священников собиралась вокруг культового таинства, чувствовался трогательный элемент братства. Он непосредственно передавался и наблюдавшим за действом, и заполнял собой все помещение. В благоговейной тишине в ходе обряда были освящены масло и миро. Это происходило со словами, которые интонировались разными голосами и повторялись, как эхо. "Аve sanctum oleum", - начинал голос в середине у алтаря. "Аve sanctum oleum…" - тихо, переходя почти что в шепот, отдавалось из боковой ниши церкви. В таинственной полутьме носителей голосов не было видно. Потом торжественная тишина наступила и среди вершивших действо. Спустя время первый голос заново подхватил: "Ave sanctum chrisma", - и вновь нисходящий по ступеням голосов затихающий повтор. Редко можно почувствовать образование духовного пространства в результате созвучия человеческих голосов так, как это происходило тут. Каким-то образом, о котором дилетант может только догадываться, в ряд всех этих действ была вовлечена и чаша. Вообще, здесь впечатляли не детали культового обряда, а "fraternitas" - тот элемент духовного братства, который исторически более всего царил в ордене темплиеров и в родственных ему обществах.
Как дитя двадцатого столетия, в таких случаях, видимо, задаешься вопросом больше не об аутентичности того или иного сосуда. Вопросы такого рода можно спокойно предоставить постепенно отживающему рационализму. Зато непосредственно чувствуешь значение того, что многие столетия почитание тысяч и тысяч людей концентрировалось на одном пункте. Что-то этим вписано. И, не привязываясь к внешнему, мы как будто слышим эхо или видим в зеркале действовавшие изначально высшие реалии.
Подобным же образом можно услышать нечто вроде отголосков течения Грааля, посетив Монтсеррат близ Барселоны. Скорость, с какой ныне преодолеваются большие и маленькие расстояния, затрудняет восприятие достопримечательных мест на земле в их истинной основополагающей атмосфере. Достигая их слишком уж легко, мы не воспринимаем их достаточно органично. Если приближаешься к массиву Монтсеррат от Монистроля, расположенного в пятидесяти километрах от Барселоны на дороге в Сарагосу, то каждый раз поражаешься, когда перед тобой внезапно вырастает скалистый собор с изъеденным фасадом, сложенный из гигантских частей. Кажется, он не столько вырос на местности, сколько поставлен на нее исполинскими руками. Невольно вспоминаешь слова, которые Рихард Вагнер в "Рейнгольде" вкладывает в уста великану, который произносит их, указывая на Вальгаллу: "Вот стоит то, что мы держим".
Сегодня канатная дорога или лифт быстро поднимают к монастырю, если с другой стороны не заезжать по-быстрому ввысь на своей машине или автобусе по хорошо ухоженным дорогам. Но можно хорошенько задуматься о прежних временах, когда путник должен был с трудом подниматься по безлюдной крутой тропе. Скалистые стены, становившиеся все более грандиозными в их обрывистости и величавости, казались, видимо, недоступными. Наверняка появлялось что-то от настроения, которое веет в первых словах "Сказания о Граале" Лоэнгрина: "В стране далекой, недоступен вам, вознесся замок…"
Очевидно, когда в свое время Вильгельм фон Гумбольдт взбирался вверх к Монтсеррату, то именно чувства такого рода настоятельно заставили его вспомнить о пути брата Маркуса к увитому розами кресту в стихотворении Гете "Таинства". Позднее ему захотелось написать самому Гете об этом сильном внутреннем переживании:
"Когда я поднимался к монастырю по тропе, которая медленно извивается у склонов скал, я услышал колокола прежде чем увидеть монастырь, и мне показалось, что я вижу пред собой Вашего набожного паломника. А когда я из глубоких заросших зеленью ущелий взглянул вверх и увидел кресты, воздвигнутые смелыми руками на головокружительных высотах на голых вершинах скал, в доступе к которым, кажется, человеку отказано, то взгляд мой не скользил с обычным равнодушием по этому знаку, непрестанно повторяющемуся по всей Испании. Мне в самом деле показалось, что
перед тысячами душ обязавшись,
с теплом стремимый к тысячам сердец.
А как могло быть иначе? Величие природы и глубина одиночества наполняют сердце такими чувствами, что хочется придать значительный смысл даже самому пустому иероглифу; и сколько бы мы ни мыслили поверх мнений или веры, но между нами и этим смыслом всегда стоит посредником человек, из чувств которого он произошел. В суете мирской мы часто об этом забываем и судим об этом быстро и резко, но в тишине одиночества, когда мы настроены помягче, все человеческое нам более близко.
Долго не мог я оторваться от вершины этой удивительной горы, долго я глядел на широкое пространство передо мной, которое тут окружено морем и покрытой снегом грядой гор, там теряется в необозримом. А потом переносил взгляд на лесистую зелень подо мной, тишина которой лишь время от времени прерывается одиночным колоколом. Я не мог удержаться от того, чтобы счесть это место убежищем тихой отрешенности от мира, где неведомое лишь немногим страстное желание жить наедине с собой и с природой нашла бы полное и беспрепятственное удовлетворение; и разве по справедливости не должно быть для каждого человеческого чувства благословенно то для него особенно благодатное место на земле, в котором человек мог бы спасти если не самого себя, то свое воображение и свои мысли?"
Думаю, в этом отрывке из обширного описания Вильгельма фон Гумбольдта великолепно охарактеризованы те впечатления от пейзажа, которые предоставляются нашему глазу с высоты Монтсеррата. Внешне некоторые группы монастырей - безо всякого анализа стиля в обычном смысле этого слова - создают впечатление взаимопроникновения западной и восточной духовности. При взгляде на фасады можно с одинаковым успехом почувствовать себя перенесенным в горное одиночество Тибета или на гору поблизости от Барселоны. Внутри монастырской церкви, особенно когда много светильников и лампочек горело мягким матовым светом, странным образом вспомнилось о рождественской церкви в Бетлегеме. Здесь тоже в основной тональности теплой материнской укрытости стихия запада сливалась с восточной, во всяком случае с близкой ей.
Но наиболее сильные впечатления можно было получить больше ушами, чем глазами, когда в живом, сдержанном и все-таки открытом миру действе слово и звуки соединились с глубокой культовой серьезностью.
В пении хора мальчиков "Эсколании" который при поддержке голосов монахов начинает звучать в определенные моменты обряда, соединяются благоговение и непосредственность, редко встречающиеся друг с другом. Благоговение может объясняться самим фоном монастырской жизни, самим этим видом, с каким Монтсеррат возвышается над повседневностью, даже над всем окружающим ландшафтом. Но откуда непосредственность, которая при всей строгости обучения художественному пению все же очевидна? Конечно, при объяснении едва уловимых вещей столь интимного рода надо быть осторожным. Мальчиков, которым посчастливилось длительное время участвовать в "Эсколании", как нам рассказывали, отбирают по всей Испании. Они на время полностью передаются попечению монастыря, который заботится и об их воспитании и обучении. Лучшие учителя задействуются для решения этой задачи, дополнительной к обучению пению. И потому ясно, что каждая испанская семья считает за счастье, если одного из ее сыновей принимают в "Эсколанию". Кажется, отбор не ограничивается в общем-то скудным по отношению ко всему населению кругом интеллигенции. Очевидно, зачерпывается вся народная жизнь. И таким образом подбирается и та сильная изначальная душевная субстанция, о которой у нас шла речь в главе "Человек стоит больше вещей". Полнота души в сердце народа, который все еще знает настоящих пастухов, крестьян, ремесленников. Что-то от этой древнеиспанской данности таинственным образом веет от пения мальчиков в Монтсеррате. Всюду, где душа предается искреннему благоговению, появляется великое. А там, где душа отдает себя вследствие полноты своей субстанции, появляется еще более великое.
Послушаем еще раз, как хор Монтсеррата, мальчики вместе с мужчинами, исполняют "O Domine, Jesu Christe". Насколько же бедно входит в язык то, что мы в центре ли Европы или на ее западе выговариваем словами "О, господи, Иисус Христос". Бедно и чопорно, даже если говорим с благоговением. При пении хора Монтсеррата медленно нарастающее и потом подкрепленное вступившими голосами обращение "O Domine" является лишь особым, благоговейным приступом к святому имени "Jesu Christe". И мы поднимаемся по невидимым ступеням, когда обращение повторяется со вступлением новых голосов. Это пение есть молитва, обращенная к страдающему на кресте спасителю мира. Слыша такое пение, мы поначалу сами оказываемся ведомыми по Виа Долороза к крестовому холму. И, потрясенные и одновременно поднятые какой-то силой, мы обнаруживаем, что то, что мы обычно называли благоговением, на самом деле всего лишь карлик по сравнению с благоговением настоящим.
Но у нас сложилось бы неверное впечатление, если бы мы подумали, что из-за этих серьезных вещей в настроении в церкви Монтсеррата есть что-то давящее или даже угнетающее. Как раз наоборот. Уже при указании на Бетлегем говорилось наряду с материнским окружением и о чем-то светлом, дружески-доброжелательном. И опять же тут совершенно явно присутствовало и то самое братство, когда после бодрого благословения аббата и завершения обряда монахи двумя длинными рядами прошли друг против друга, и при этом каждый, оказавшись напротив другого, обнимал его в легком поклоне. Жесты и сопровождавшая их музыка напомнили о сценах в замке Грааля, как их представил Ричард Вагнер в своем "Парсифале".
Но при всех имеющихся сходствах кто станет думать о подражании с одной или с другой стороны? Рассматривать это было бы праздным занятием. Что было когда-то живого в культе Грааля, сегодня можно почувствовать только в отголосках. Они-то и становились частью то одной, то другой действительности, частью культурных направлений и творящих историю сил, никак не влияя на отношения между ними. И даже отдаленные отголоски ценны сами по себе и заставляют предполагать что-то большее.
К сожалению, "Всемирная история в свете легенды о святом Граале", о которой мы говорили, осталась незаконченной Вальтером Иоганном Штейном. Заложен только первый весьма значимый камень.
Желающий продолжить эту работу должен будет, пожалуй, учесть одно. В Европе есть ось между Востоком и Западом. По этой линии проходят силы, проявившие себя в последнее время в государственных образованиях, действующие в сфере физической, зримой, цивилизаторской. И по этой же оси в "горизонтальном" направлении проявляется и поныне политическая напряженность. Но помимо этого на европейском континенте есть "диагональное" направление с юго-запада на северо-восток. Оно больше предполагается и проявляется в интимной сфере сил, формирующих культуру. В пределах обозначенных здесь связей не совсем незначительным может оказаться то, что Иберийский полуостров и с ним Испания находится на одном из концов этого направления.
Португалия
Если в ходе дружеских бесед познакомишься с португальцами поближе, то узнаешь, что у них есть слово, в котором они интимным образом чувствуют отражение части своего естества. Слово называется "saudade". При чисто лексическом переводе оно значит страстное желание, стремление к чему-либо, может быть, еще и "грустное воспоминание". Но если эти переводы преподнести португальским друзьям, то они только с легким сожалением покачают головой. И скажут, что что-то от того и от этого в их саудаде есть. Но "это" не то, а что-то "другое". Но из чего "это другое" состоит, они опять же толком не скажут. И тут понимаешь, что речь должна идти об одном из непереводимых слов вроде немецкого слова "гемют" или французского "шарм".
Но очень удивляешься, узнав однажды, что в русском языке в самом деле есть два слова, которые способны пролить свет на то, что португальцы подразумевают словом саудаде и что они при этом слове чувствуют в глубине души. Рассматриваемые здесь слова - это, с одной стороны, тоска, а с другой стороны удаль.* Слово тоска может быть, конечно, переведено на немецкий словами "Sehnsucht", "Heimweh", выражением "стремиться выйти из нехорошей, гнетущей обстановки"; более старое выражение "скука и боязнь", вставленное Гете в песню Клархен в "Эгмонте", тоже в какой-то степени соответствует, как и шведское слово "langtan". Но это чувство не без тонкого нюанса скептической рефлексии. Немного можно подумать и том, что мир воспринимается как бы в "помешательстве". "Помешательстве" в том смысле этого слова, в каком Рихард Вагнер использовал его в первой сцене третьего акта своих "Мейстерзингеров". Слово "удаль" в повседневной речи означает смелость или отвагу. В похожих на баллады народных песнях почетно иметь удаль, быть удалым. При наивном восприятии языка в этом слове заключено нечто от понятия "даль" - Ferne. Кажется, это должно указывать на то, что слово среди прочего означает еще и стремление вдаль. И это стремление, налившееся волей, наполненное желанием подвигов, явно воспринималось душой восточного народа как нечто похвальное. Удалым мог быть только человек храбрый, готовый в неизвестной дали совершить неизвестные еще подвиги и при этом быть молодцом и преодолеть все опасности, пусть они будут хоть какими. При слове удаль вспоминается и искавший "avontiure" средневековый рыцарь, и его дух, наполненный жгучим желанием идти вдаль.
Когда рассказываешь португальцам об этой замечательной паре сестер - о тоске и удали, то они прислушиваются и смотрят на тебя с выражением согласия. Происходит удивительное: чувства и свойства ощущений, рожденные далеко на востоке, кажется, быстрее переводятся тем таинственным, что носится в груди европейской сестры, живущей на крайнем западе. "Les extremes se touchent".
В португальском слове саудаде как раз не только тоска - печаль по родине, скука по кому-либо, но и нечто от изначального волевого элемента удали. Только вот удаль здесь трепещет с легким минорным оттенком. Ведь это было величием Португалии в блестящую эпоху ее истории, что ее сыновья, наполненные отважной, жаждущей подвигов тоской по дальним далям, шли очень далеко и совершали деяния, формировавшие облик земли. Сегодня в душах людей живо воспоминание об этих подвигах, совершавшихся вдали и приводивших к покорению далей. Но одновременно есть и что-то вроде легкого сожаления, что эти подвиги уже совершены. Движения души еще продолжаются, но пространство, в котором они могли бы развернуться, физически сжалось. И это вызывает саудаде, в котором живет гордая сила на пару со сладкой меланхолией отречения. Но живет в нем, видимо, и еще одно, выходящее за любые грани национально-исторического. Пусть и в ином варианте, но и португальская культура, подобно итальянской и испанской, была мощным выражением души и ее сугубо чувственных сил. Переход в новое время приводил к великолепному владению миром вещей, однако своим "овеществлением" доводил людей до помешательства. Душе становилось все труднее дышать. И потому в душе, когда она ощущает свою собственную субстанцию, шевелится скепсис по поводу блеска внешне упорядоченного, "ставшего" мира.
Можно обладать в практической жизни всеми качествами современного человека, можно быть бодрым вплоть до разнузданной веселости, но в глубине души все еще дремлет неудовлетворенная саудаде.
Но выражение "les extremes se touchent", кажется, в Португалии оправдано и еще в одном смысле. Люди, много поездившие по Европе и имеющие слух к языкам, всегда обращали внимание на то, что звуковой характер португальского языка в общем и целом напоминает известные славянские говоры. Этот факт настолько объективен, что безо всяких прописан во введениях к курсам португальского языка. О "влияниях", столь ревностно искавшихся в эпоху позитивистско-материалистической филологии, конечно же, ни в малейшей степени речи не идет. Схожие духовные тенденции и похожие душевные переживания порождают и похожие формы выражения, в том числе и в случае отдаленности во времени и в пространстве. Проявляющееся в определенных феноменах родство может в таком случае иметь и симптоматическое значение. Однако для изучения этого родства потребуется много научной точности и столько же художественного вкуса. Поэтому будет, конечно, оправдано, если мы в нашем схематичном изложении будем довольствоваться просто указанием на феномен звукового сходства.
Помимо встречающейся как в португальском, так и в русском языках тенденции вместо заостренности и оформленности уходить при произнесении различных звуков к широкому, диффузному и смягченному, есть еще и закрытое произнесение отдельных гласных, которое, если можно так выразиться, "режет уши". Так как явление с поразительным сходством встречается на западе в португальском языке и на востоке в русском и в других славянских языках, оно указывает на артикуляционную базу, совпадающую до мелочей. Феномен можно "пощупать руками", если дать португальцу сказать свое любезное "obrigado" - "спасибо", и сразу после этого послушать русские "спасибо" и "пожалуйста". Слушатель окажется попросту в кругу одинаковых звуковых тембров.
Таким образом, в результате предыдущего рассмотрения перед нами предстает народ, который, с одной стороны, отличается сильными чувственными душевными нюансами, с другой стороны, обнаруживает известное родство с безграничностью и живостью русского духа, а с третьей стороны, имеет явную связь с французской культурой. Но все этим охарактеризованы только некоторые стороны души португальского народа. Мы должны посмотреть на еще одну, очень важную сторону. Она открывается нам, если мы вспомним о том, что некогда португальцы и испанцы были единым народом. В своих основополагающих докладах о миссии каждого народного духа (см. уже упоминавшийся цикл лекций в Осло и проч.) Рудольф Штейнер указывал, что душа португальского народа самостоятельно вступает в историю полуденного мира только с момента, когда Португалия приступила к выполнению своей морской миссии. Выражаясь иначе, только когда народ страны, открытой морю, отважился выйти в море, когда он превратил свое географическое положение в историческое движение, - только тогда и родилась Португалия в подлинном смысле этого слова.
Чрезвычайно интересно увидеть, что этот процесс мог начаться только благодаря тому португальскому свойству изменчивости, которое мы уже знаем по другим проявлениям. Когда мотив географических открытий уже звучал в воздухе, когда пришли в брожение силы саудаде в смысле тоски по далям, тогда оказалось, что не было моряков, выросших до уровня новых задач. Как только корабли удалялись от побережий слишком далеко или вообще начинали плыть в неизвестность, команду охватывала паника. Со стойкостью суеверия господствовала боязнь заплыть в какой-то момент в окружающую мир пропасть. Уже воспринятые образованными людьми представления о шарообразности земли совершенно не разделялись народом. И как только подобный страх поселялся среди команды, уже не помогали ни угрозы, ни уговоры. Люди просто восставали, и нередко доходило до бунтов с тяжкими последствиями. Таким проявлениям долго не могли ничего противопоставить. И было сказано: нужны капитаны и штурманы, которые помимо знания морских наук обладают таким личным мужеством и авторитетом, что способны увлечь за собой боязливую или измученную страхом команду. Люди мужественные и авторитетные - говорилось далее - у нас уже есть, но им к несчастью не хватает морского образования. При этом имелись в виду рыцари. И тогда появилась новая идея. Была ли она принесена извне или же сама вспыхнула в душе рыцаря, но в один прекрасный день было решено: некоторые рыцари должны были решиться стать моряками.
Если принять во внимание весь менталитет и в особенности предрассудки того времени, то поначалу идея казалась абсурдной. Но она получила неожиданную поддержку "свыше", потому что за ней стояли дух времени и рождавшаяся душа португальского народа. И произошло нечто весьма необычное: португальские рыцари действительно были обучены теории и искусству навигации. Писавший на средневерхненемецком языке Гартман фон Ауе, как известно, начинает своего "Бедного Генриха" словами:
Был рыцарь столь ученым, что
он в книгах мог прочесть все то,
что сам хотел там написать.
Так что удивительным было даже то, что рыцарь мог читать книги. А то еще более удивительное, что произошло в Португалии на заре нового времени, оправдывало появление португальского "Гартмана фон Ауе". В писателе Камоэсе спустя поколение после открытия Америки проявились чувства подобного рода. Но даже больше писателей удивлялись, по-видимому, сами моряки, выходя теперь в дальнее плавание под руководством рыцарей, знавших море. Страх явно все еще сидел у них в жилах. Но что из того? Показывать его стало глупо и бесполезно. Мятеж же на море был бы равнозначен самоубийству. Потому что разговор у капитанов-рыцарей или у штурманов-рыцарей был короткий: кто не хотел повиноваться, должен был нарваться на шпагу. И если теперь выбор был между лишь только возможной, нарисованной трусливой фантазией гибелью вдали и верной смертью или верным заключением в кандалы вот тут поблизости, то выбор делался быстро: люди про себя боялись и роптали, но помалкивали и плыли дальше. Между прочим, сведения об этом "новом стиле" плавания разошлись быстро. Люди, которых нанимали, знали, что им предстоит. И постепенно еще на земле происходил необходимый отбор команды. Все более и более дальними становились пункты назначения экспедиций; ворота для великих географических открытий отворились. Но до начала современного мореплавания существовал еще один момент, над которым, пожалуй, стоит немного подумать. Мы как дети двадцатого века привыкли к тому, что серьезные достижения совершаются на основе серьезных знаний или серьезных технических навыков. Сегодня уже считается наивным, а скоро будет просто смешно спрашивать о моральных предпосылках достижений. Так было не всегда, и так, видимо, не будет всегда - применительно к ожидаемым в будущем достижениям нового сорта. Кто в древности хотел проникнуть в мистические таинства, тот должен был подвергнуть свое естество моральному очищению; и ему приходилось работать над укреплением своих духовных добродетелей не по-филистерски, не по-педантски, а в смысле настоящей закалки. И поэтому глубоко впечатляет, когда узнаешь, что у истоков великих географических открытий стояли сознательно призванные силы мужества, а не просто новое революционное знание. Мужество, бывшее у рыцарства, поначалу не было чем-то новым, оно являлось достоянием, завоеванным столетиями в боях и в бедах. Но, ступив благодаря мореплаванию на новые пути, оно приобрело и новые формы выражения, новые качества. Эта метаморфоза качеств средневековых в доблесть нового времени, происшедшая под знаком духа нового времени, дает Португалии право на почетное место в европейской истории.
За всем тем нельзя забывать о том, что в мужестве рыцарей присутствовали и религиозные мотивы совершенно конкретного свойства. Многие из них были членами духовных рыцарских орденов, сформированных по образу ордена темплиеров, например, орден Христа или орден Калатравы. То, что делал член подобного ордена, исходило не только от его инициативы. Отдельный поступок благословлялся жившим в духовном мире опекуном и руководителем, которому подчинялись во всем. В каком-то смысле весьма поучительно вспомнить о том, что для многих этих рыцарей духовным патроном был Сант Яго - святой Яков, хранитель надежды. Ведь надежду можно, видимо, с одной стороны назвать доверием к тому, что пребывает еще в неизвестной дали, что идет к нам издалека. Разве такая духовная добродетель не полностью соответствует тому, что жило в груди мореплавателей, отправлявшихся к незнакомой, еще неясной цели, полностью доверяясь ей?
Действительно, именно такой связи мы обязаны названием африканского мыса - Мыса Доброй надежды. Когда в 1486 году, то есть за шесть лет до экспедиции Колумба, Бартоломеу Диас миновал страшный "Мыс Бурь" - cabo tormentoso, его преисполнило гордое торжество. В то же время он был полон сознанием того, что именно Святой Якоб, Сант Яго был вдохновителем этой экспедиции, которая впервые исследовала действительную протяженность африканского континента с его западной стороны. Таким образом наименование, в результате которого мыс стал "Мысом Доброй Надежды", было осознанной жертвой, принесенной в благодарность.
И в данном случае мы взяли лишь некоторые симптоматические события из большого числа других. Но может быть, они уже, без более подробного разговора о португальских мореплавателях, показывают, что рядом с рыбаком-пескадором в качестве представителя Португалии можно поставить и образ моряка-маринейро. Уже упомянутая белемская башня, от которой Васко да Гамма начал свое великое путешествие, сама по себе во всей ее красоте и простоте становится для посетившего Португалию символом необычайных сил, излучавшихся отсюда в мир. Белемом называется по-португальски Бетлегем. Это напоминает нам о том, что мы уже встречали в Португалии "Назарет". Приятно думать, что этот "приговоренный к морю" народ заново создал и Назарет, и Бетлегем, и поставил их у воды. Совершенно особенное отношение к мореплаванию нашло свое выражение среди прочего и в том, что при гроссмейстере ордена Христа Альфонсе V в Сагресе была основана первая в мире школа мореплавания. Насколько велик в народе был интерес и энтузиазм к маринейрос, видно из того достопримечательного факта, что мореплаванием интересовались до темы катастроф и следов катастроф включительно. В семнадцатом веке в Португалии появилась доподлинная "История кораблекрушений". Она была издана ученым Бернардо Гомешом де Бритосом под заголовком "Historia tragico-marituma".
Ясно почти что как пять пальцев, что португальский народ, обретавший в мореплавании свое собственное естество, должен был начать проявлять и какую-то естественную симпатию к другому европейскому народу, который мореплаванием и связанной с ним колонизацией строил свое величие в мире: к британцам. С началом португальской морской экспансии, которая оказала сильное влияние и на историю Испании, развитие всей Европы приняло новое направление. Она выходит из своих средиземноморских пределов и начинает перемещаться к Северному морю. Однако если испанская морская мощь разбилась при встрече с Англией, то между португальским и английским народами появляется нечто вроде морского родства душ. Оно оказывало свое действие на протяжении столетий и поныне остается в системе европейских отношений фактором, который нельзя недооценивать. Так португальцы, стоявшие с испанцами спиной к спине, завязали живые и плодотворные отношения с двумя другими культурами, ведь прежде чем зашла речь о британцах, мы уже видели и спонтанное влечение души португальского народа к той духовной сфере, которая воплощается во французском языке.
Все эти тонкие едва уловимые особенности, характерные для духовного облика Португалии, в конечном счете содействовали и тому, чтобы установилось особое положение Бразилии среди большой испаноязычной группы центрально- и южноамериканских государств.
Проехав Каскаес, мы достигаем Мыс Рока - Cabo de Roca, и узнаем, что это самая западная точка европейского континента.
Стоя на выступе скалы, где мало места, мы смотрим вдаль. И в этом положении, стоя на скале над морем, мы еще раз чувствуем Португалию: такой, какая она есть, такой, какой она должна стать.
И появляется воспоминание об одном из старейших стихотворений португальской литературы.
Музыкант Меендихо
Казалось мне, я в одинокой часовне
В "Святом Симеоне", и волны вокруг.
И ждал я: когда же придет ко мне друг?
Стоял на коленях я пред алтарем,
А волны шумели в бурленье своем.
Кругом только волны, но нет кораблей,
Огромные волны, и нет здесь людей.
И в море вокруг тем волнам все расти,
И нет моряка, и мне тяжко грести.
И нет моряка здесь, и вижу с тоской,
Что скоро умру я в пучине морской.
И нет моряка здесь, и тяжко грести,
И дам я пучине себя унести.
Я жду лишь: когда же придет ко мне друг?
(изложение мое - В. Сидоров)
"О гениии Европы" из главы о Франции
Неисчерпаемы сокровища, которые предлагает зрителю Лувр. Если захочешь смотреть и воспринимать как следует, то только в залах картинной галереи придется ходить месяцами и годами. Но когда преисполнишься блеском красок примитивизма, богатством ренессанса, золотой серьезностью Рембрандта, воздушными и облачными формами живописи барокко или страдающим и вместе с тем столь трогательным человеческим реализмом Веласкеса, - после всего этого одна картина вновь влечет к себе, заставляет затаить дыхание и в то же время как будто о чем-то спрашивает. Это "Источник" Ингреса. Обнаженная женская фигура в нише или в гроте скалы стоит фронтально, склонив одно плечо под тяжестью каменного сосуда, из которого изливается прохладный и свежий серебристый ручеек. С лица скорее кельтской, нежели греческой девушки на нас смотрят глаза, которые, кажется, не направлены на что-то конкретное, а просто внутренне вобрали в себя поток изливающейся воды.

При поверхностном взгляде картину можно было бы назвать холодной не только по сюжету, но и по исполнению. Как можно увидеть, она скорее набросана, нежели нарисована. Но если возле нее задержаться, если подойти к ней еще и еще раз, то строгость и статичность постепенно улетучатся. Чувствуешь и себя будто бы подхваченным нежным живым течением. И женский образ вдруг предстает воплощением всей той чистоты, которая есть в душе французского народа. Однако здесь нечто большее, чем чистота. Кажется, в чистой струе и в потоке слышишь нечто такое, что соединяет французский дух с водой и с кельтскими родниками. Ведь это кельты странствовали от источника к источнику, дабы насадить питающие и исцеляющие, несущие и защищающие деревья и растения там, где проступавшая вода обещала плодородие.
И все больше кажется чудом, что в центре культурного мира, знающего все акценты страдания и душевного пламени, находится этот женский образ, как будто созданный "первейшей и прекраснейшей мыслью богов".
Этот образ говорит о ясной, созданной животворными силами основе становления целой нации. Основе, на которой раскрылось богатство французской души и которая видна во всех проявлениях духовного мира. Ненавязчиво, но твердо говорит он о том, что никогда не станет подвластным болезненным воздействиям законов увядания.
Изучение истории французского языка привело к тому важному открытию, что поначалу дикция в старом французском тоже была ориентирована на начало слова и на корневые элементы. Ударение на последний слог развилось постепенно. Если же мы, следуя изречению Гете, задумаемся не только над "что?", но в еще большей степени и над "как?", то будем вправе сказать: французский язык лишь в ходе длительного процесса переходил из сферы преимущественно чувственной в сферу разумно-интеллектуальную. Или, приняв во внимание живые, но слепые и иррациональные свойства желаний, можно было бы также сказать: французы проделывали путь от иррационального к рациональному.
Но здесь кроется одна из важнейших тайн этого языка: лишь часть его первоначального капитала была конвертирована в рациональное. И только при учете и того, что конвертировано не было , можно глубоко понять природу французского и французский язык.
Само по себе слово " entrainement ", нами упоминавшееся, уже является выражением желаний, которые никогда полностью не расходовались и которые никогда не будут полностью израсходованы. Но к нему добавляется и еще один иррациональный элемент, которому нелегко дать определение. Можно было бы обозначить его словами "робко витающий в себе самом". В заголовке этого раздела мы назвали это "мелодичным сном". Этот невесомый душевный элемент мы сможем как-то уловить, если послушаем, к какой мелодичности предложений француз прибегает при повторении или перечислении. Предположим, например, что надо рассказать о нескольких прекрасных днях каникул. Немец сказал бы что-то вроде "Мы ходили гулять, мы болтали, мы пели". Мелодия предложений в этом случае обретает легкую желанную стретту, (18) но не выходит за рамки собственно прозы. Не намного по-другому было бы, если бы это небольшое перечисление было произнесено по-голландски или по-русски, чтобы назвать лишь некоторые языки из многих. Но если бы мы теперь смогли послушать, как француз произнесет свои " On se promenait , on causait , onchantait …", то поразимся какому-то тонкому, колеблющемуся элементу, явно выпадающему из рамок обыкновенной дикции. И самое интересное в том, что этот легкий нежно окрашенный момент волшебным образом является при каждом более длинном перечислении. Разум не расположен к перечислениям там, где господствует только он один. Он ищет выдумку, остроту или неожиданный вариант. Все это обычно доминирует во французском языке и формирует его собственный характер, его тональность. Повторение, перечисление и все, что на какое-то время заключается в рамки, относится к иной форме сознания, по большей части заглушенной чем-то иным. Иногда кажется, что непосредственно слышишь душу. И каждый раз, когда задумываешься над этим тонким нюансом французского языка, на ум приходит одно соображение, напрашивается одна мысль. Во французском языке, как, впрочем, и в большинстве других европейских языков, нет слова, равнозначного немецкому " Gemut ". (19) Это не должно соблазнить нас на поспешные выводы. Хотя в языковой жизни отсутствие обозначения для какого-нибудь осязаемого объекта - например, животного, растения или же инструмента, материала, - указывает на фактическое отсутствие соответствующего объекта в данной культуре. Но не всегда так в случае с душевными свойствами. Здесь отсутствие обозначения может иногда быть симптомом и того, что личность или же весь народ просто живет с этим душевным качеством в наивном неведении. Его не поднимают в сферу действующего сознания и не помышляют о том, чтобы его проанализировать. Мы вспомним об этом феномене еще и при рассмотрении нидерландского языка.
А если мы еще раз обратимся к языку, то сможем увидеть, что в строении предложений, в области синтаксиса действует все тот же принцип архитектурной ясности, который только что проявлялся перед нами при созерцании Парижа. Когда француз говорит, то он так обрабатывает предложения, что мысль доходит до слушателя ясным и отчетливым образом. А что относится к слушателю, то же самое в едва ли не еще большей степени относится и к читателю, воспринимающему хорошо изложенный письменный французский язык. Значительную часть анализа, которую нам обычно в качестве слушателей или читателей приходится проделывать, здесь уже осуществлена самим языком. Это, в частности, привело к тому, что философские труды авторов других национальностей легче читать во французском переводе, нежели чем в оригинале. Но за этим постоянно выделяемым преимуществом нельзя забывать и о том, что любой перевод является одновременно и ограниченной интерпретацией и что ясность изложения подчас может быть за счет полноты содержания.
Во всем феномене французской речи ясность расположения и прозрачность анализа выполняют чрезвычайно важную функцию. Мысль, которая при стремительно текущей речи могла бы потерять свои очертания, этими двумя качествами все время ухватывается, очерчивается вновь, и язык при всей его подвижности сохраняет почти что идеальное равновесие.
Между прочим, француз проявляет себя аналитиком даже в своих повседневных житейских привычках. Это особенно относится к еде. Если в большой французский ресторан придет, например, голландец, швед или немец, то он встретит много такого, что приведет его в изумление. Для начала он узнает, что принятие пищи не быстрое дело, а почти что праздничное мероприятие, на которое следует отпускать много времени. Например, в немецком языке только для избранных, торжественных обедов используется глагол " dinieren ". Француз даже не из очень обеспеченного слоя общества "динируется" ежедневно при каждом серьезном приеме пищи. Тут не просто после вступительного супа выставляются на стол все собранное из разных горшков и сковородок, а разнообразные дары кухни сервируются в отработанной, хорошо понятной последовательности. Салат, овощи, жаркое, иногда даже и " pommes frittes " не заявляются компанией, которая кажется французу вульгарной, а мило и чистенько приходят друг за другом. Между ними постоянно происходит смена подстилок и приборов. Одно из следствий этого индивидуализирующего блюда распорядка в том, что аппетит учатся раскладывать на более длинную дистанцию. Чисто объективно здесь требуется умеренность. Другое следствие в том, что каждый вид еды или "блюдо" совершенно естественно рассматривается как бы под лупой; в случае чего оно не сможет спрятать свое сомнительное качество за спиной другого блюда, оно вынуждено само по себе "чем-то быть".
Может быть, интересно услышать, что новейшие исследования физиологии питания хвалят такую "аналитическую" манеру еды на основе наблюдений и рекомендуют ее на будущее европейской кухне вообще. Человеческий организм намного лучше извлекает достоинства и "оттенки" из различных материалов, если имеет возможность в небольших паузах концентрироваться на них каждый раз заново. Если так, то стоит пожалеть о том, что многие французские рестораны в последние годы, видимо, в согласии с общей туристической тенденцией, начали приспосабливаться ко вкусам и привычкам других стран.
Ясно, что естественные вкусы французов противятся всевозможному смешению или совмещению, которое у немцев называется "один горшок - Eintopf ", а у голландцев " stamppot ".Это почти что притча во языцех. Во всех сферах французу чуждо то, что приводит вещи в более или менее неразборчивое состояние. Следует уметь присмотреться, чтобы соблюсти меру, а "соблюдение меры" есть неписанный, но священный закон для этой обычно столь темпераментной нации.
Житейские привычки, укоренившиеся столетиями, сами внесли в язык много такого, что требует соблюдения меры. И опять же в соблюдении меры не только значительная часть внутренней дисциплины, но и тонкое, ощупывающее, даже предоставляющее свободу внимание к людям и вещам вокруг нас. Чего только нет в "силь ву пле", которым француз предваряет свои требования и даже приказы! Можно ли это и впрямь верно перевести немецким словом "пожалуйста - bitte ", таким, каким оно обычно употребляется?
Вспоминается один эпизод во французском сенате. За длинным и элегантным докладом последовали ответы на вопросы; ответы на вопросы сменились дискуссией; дискуссия превратилась в горячую, ожесточенную и в конце концов в страстную словесную битву; почтенные, отчасти уже седовласые, сенаторы, казалось, были готовы наброситься друг на друга с кулаками. Колокольчик председателя звучит бессильно, брожение нарастает. Тут выступает один из служащих в униформе с тростью с набалдашником, сначала стучит тростью и кричит громким, но отнюдь не грубым голосом: " Silence , Messieurs !… S ' il vous plait …" Перед "силь ву пле" заметная пауза, а конец последнего слова отчетливо растягивается. "Спокойствие, господа, если вам угодно", - так можно это перевести дословно. И гляди-ка - "это угодно"! Пожилые забияки вдруг отходят друг от друга, некоторые даже улыбаются. Беспорядок улегся. Призыв не непосредственно вошел в волю других. Возможность разбить друг другу головы полностью оставалась, но у нее на пути встало чувство меры участников. Но каким-то образом апелляция была и к имеющемуся у каждого французского гражданина наследию цивилизации и нравов. И такой способ, и только такой, только и действует, если во Франции надо чем-то распорядиться или что-то приказать.
Эта тонкость чувственных ощущений относится и к более широким сферам. Культура питания всего лишь частный случай. Например, и в сфере одежды, преимущественно у женщин, существует талант понимания "только-только" и "чуть-чуть". Врожденное чувство цвета и формы всегда позволяет каким-то волшебством моментально сотворить что-то привлекательное одной добавочной складкой тут, одной цветистой заплаточкой там. В этом некоторые, но и впрямь только некоторые, истоки той моды, о которой еще только будут говорить.
Необыкновенно благотворным образом сказывается деликатность чувственной сферы на одной из важнейших сфер жизни современной цивилизации - на дорожном движении. Сквозь набегающие и спадающие волны уличного движения в большом городе француз ведет себя и свою машину с почти величественной надежностью. Но эта надежность появляется не столько от того, что он слишком уж послушно следует правилам, сколько в результате его способности реагировать очень быстро и импровизировать по ситуации. В очень широком диапазоне он замечает все играючи и играючи реагирует на поступившие в данное мгновение импульсы. Прежде всего внимание направлено на любого пешехода, который здесь не quantite negligeable , (22) не весьма нежеланное дорожное препятствие, а уважаемый в любое время фактор. С другой стороны, такое господствующее повсеместно отношение придает пешеходу необычайное чувство свободы и безопасности. И если он не делает никаких особенных выкрутасов или глупостей, не реагирует нервно, а последовательно идет в своем направлении, то посреди всей путаницы парижских бульваров и авеню он может чувствовать себя в большей безопасности, нежели чем на тротуарах в других частях поднебесья.
Перед лицом этой удивительной способности реагировать и импровизировать в дорожном движении может появиться мысль: автомобиль хотя и изобретен или по меньшей мере впервые запущен в Германии, но нужные для движения на дорогах качества, данные французу от природы, придется сознательно воспитывать у будущих поколений. Лишь тогда дорожное движение станет делом довольно приятным. Правда, нужно будет добавить и некоторые качества от британской культуры вождения.
Близко родственным гибкости чувств, о которой здесь говорилось, является и другое присущее французскому народу особое свойство: деликатное осязание того, что происходит в другом человеке, умение хорошо к нему прислушаться. Большая часть ставшего притчей во языцех политеса или вежливости основана на этих качествах. Давно замеченный факт, что французы с особым тактом исправляют почти неизбежные ошибки у иностранца, пытающегося говорить по-французски. Их такт состоит в том, что они попросту вплетают в свои ответы соответствующую правильную форму. Происходит это безо всякого излишнего акцентирования и без какой-либо поучительной тональности. В этом искусстве упражняются с приятной легкостью, почти с грациозностью. Вспоминаешь о том, что итальянец из народа подсознательно воспринимает иностранца, не говорящего по-итальянски, как морально не совсем полноценного. Необразованный испанец считает того, кто не говорит по-испански, немного глуповатым. У француза же четкое осознание того, что "говорить по-французски" искусство нелегкое и не может быть дано каждому. С пониманием и с удовольствием он предлагает любому иностранцу свою помощь в подъеме на эту гору. Но самое прекрасное в том, что он делает это незаметно.
Сколько всего по-настоящему французского узнаешь уже одним тем, что немного почувствуешь значение слова " folie ". Если справиться об этом ключевом слове в одном из карманных словарей, то в немецком языке найдешь переводы "дурость", "безумие", "глупость". И действительно, в слове " folie " есть что-то от всего этого и многое другое, что вообще не поддается переводу. " Folie " - это противоположность понятному и прозрачному, как стекло; это то, что, кружась и танцуя, поддавшись влиянию минуты и обезумев, разбивает вдребезги прозрачную ясность стекла; это еще и все то, что на длинных житейских дорогах поддерживает в человеке иллюзии; это мчащееся слепое и опьяненное безумие, это отвергающее само себя с невидимыми слезами стремление к смешному, это все это, и ничто из этого не все, это больше суммы всего означенного, - это, короче говоря, то, что совершенно иррационально.
Опять же весьма характерно для гения Франции то, что один из лучших философских и математических умов Франции Блез Паскаль стал автором наиболее значительного изречения о " folie ". Изречение мы находим в его знаменитых "Pensees":
"Les hommes sont si necessairment fous, que ce serait etre fou par un autre tour de folie, de n'etre pas fou" . Примерный перевод таков: "Глупость столь необходимо присуща нам, людям, что не быть глупым значит все-таки быть им, но незаметно".
Эта россыпь мыслей блестит как жемчуг, и в ней есть что-то из непостижимых морских глубин души французского народа, и в то же время эта россыпь является небольшим шедевром искусства шлифования мысли. Если пожить с ней подольше, то станешь восторгаться не только ее искрометным остроумием. Начинаешь чувствовать все больше и больше, как много в ней заключено философии бытия. И понимаешь, что среди прочего в этой россыпи сказано: среди дурашливой глупости и круговерти масок на карнавале учись тому, что вся твоя жизнь есть часть карнавала, на котором на тебе как раз вот эта и именно эта маска, на тебе, весьма охотно носившим бы и другую; частица безумия и дурашливости в этом мире в каждой мелочи, и только все вместе, только великое серьезно. Наверно, так сказало бы за себя само слово " folie ", и так же это могло прозвучать в душе глубоко верующего Паскаля.
В молниеносном постижении этой истины француз сбрасывает с себя часть той тяжести, которая стремится превратить человека в филистера. "Невесомость" же, а не просто беззаботность или легкость, есть то, что живет в другом иррациональном парне - в " charm ".
Шарм можно сравнить с пыльцой на крыльях бабочки. Мы никогда не сможем ее понять, если стряхнем ее с крыльев и потом станем ее разглядывать. Мы обязаны в одно мгновение заметить игру ее красок, когда бабочка в полете. И в то же время это та самая земная пыль, задуматься о которой большей частью похвально. Видимо, мы здесь находим что-то от того великого, что имеет в виду Гете, говоря в первой сцене второй части "Фауста": "В цветистом отблеске мы жизнь имеем".
В своих тонких красках и тонах шарм может явиться перед нами из небольшого чего-то, из черты и так незаурядного или даже прекрасного лица, из выделяющейся цветом полы платья, из веселой наивности при совершении языковых ошибок, из особого блеска над ландшафтом. Он в первую очередь исходит от людей, от отдельных личностей, и передается предметам, к которым люди прикасаются, которые изменяют или преобразуют. В еще не освоенном людьми северном исконном ландшафте так же мало шарма , как и в тропическом лесу с его дикой роскошью.
Шарм проявляется в нас как изумление еще до начала мыслительного процесса, он в крайнем случае является вступлением в мыслительный процесс. А может быть, он является вступлением в чувство - в такое чувство, которое, само того еще не зная, уже утвердилось в своем предмете и привязалось к нему.
С точки зрения истории слов шарм предположительно происходит от латинского " carmen ", то есть от поэтически-музыкального, от песни, от песни поначалу магической, от волшебства. Таким образом, история может отослать нас к тем временам, когда слово не только сообщало и значило, но обнаруживало еще и отблеск силы действа. Но мы должны иметь в виду, что шарм перестает быть самим собой, если действительно начинает околдовывать. Он вправе только приблизиться к волшебству, но при этом останавливается, приглушенный каким-то таинственным способом.
С другой стороны, он настолько приближается к своему предмету, что явно отличается от того, что мы называем "привлекательностью". В привлекательности, эстетику которой гениальнее всех описал Шиллер, заключено светлое, легкое, миловидное и ясное; она отпускает нас настолько, чтобы мы могли на нее поглядеть. Шарм же заставляет нас быть заодно с объектом восхищения, он делает так, что мы сливаемся с ним.
Стекло лучше всего отражает, если с тыльной стороны у него покрытие, в котором спрятался "Меркурий". Шарм - это нечто вроде эфирного покрытия на том стекле, в котором может мельком отразиться душа. Но правда ли он связан только с душевным? Мы вновь вспоминаем о том, как интимно связана душа французского народа со стихией воды. В таком случае в том шарме, который во французском ландшафте, можно увидеть что-то вроде сублимации воды. Или же мы можем почувствовать напоминание о том, что первые обитатели страны кельты были связаны с родниками. Речь шла о душевной связи, которая проявлялась и в обрядах. Если десятилетиями живешь вместе с естеством французов, можно в некоторых местностях почувствовать что-то вроде дуновения от таких обрядов: изначально душевное, ставшее сегодня прекрасным. И тогда шарм кажется душевным покрывалом Галатеи, развевающимся над всей страной: изначальный французский ландшафт легко покрывается им.
Оставим шарм скользить и дальше под этим покрывалом. Но не будем с ним прощаться, не сказав тихонько о том, что у шарма есть хотя и непохожая на него, но все же родная сестра в лице славы как элемента русского ландшафта.
Примерно в середине семнадцатого века во Франции происходят два события, которые являются симптоматичными для центрального значения Парижа. Поскольку эти события из разных сфер, их редко рассматривают вместе.
Первое событие связано с началом применения дрожжей при выпечке и тем самым с выпечкой нового сорта хлеба, который поначалу назвали " pain moulu ". До того и во Франции был известен только хлеб, делавшийся из кислого теста. Появление дрожжей вызвало во французской общественности переполох, который кажется нам сегодня невероятным. Образовались группы фанатических сторонников и противников дрожжей, в конце концов на медицинский факультет Сорбонны был направлен официальный запрос с просьбой высказать обоснованное суждение о возможности применения дрожжей. Ученые мужи после долгих раздумий пришли к мнению, что применение в пекарнях дрожжей не только в высшей степени сомнительно, но и прямо-таки губительно для здоровья народа. Дело было представлено парламенту, и состоялся ряд горячих дискуссий в ходе так называемого "дрожжевого конфликта". Наконец, пришли к законодательному акту, по которому употребление дрожжей при выпечке было запрещено в любой форме. Кажется, этот запрет не произвел особенно сильного впечатления. Его во многих местах высмеивали. Нашелся даже карикатурист, нарисовавший летящую над страной смерть с крыльями из " pain moulu ". Но в целом запрет содействовал только тому, что на новый хлеб обратила внимание более широкая публика. Многим очень захотелось познакомиться с ним. И стало почти обычаем в больших собраниях по прошествии некоторого времени при всеобщей негласной договоренности о молчании торжественно сервировать образцы запрещенного хлеба. Поскольку предсказанные врачами разрушительные последствия явно не наступали, новая выпечка получала все больше сторонников. Наконец, дошло до открытых протестов против изданного закона и до нового запроса в парламент. Правящие круги не могли игнорировать столь энергичные проявления общественного мнения. Запрет был отменен, но одновременно установлено, что необходимые для выпечки " pain moulu " дрожжи можно было получать только и исключительно в Париже .
Примерно в то же время Ришелье основал Французскую Академию и поручил ей редакцию "Dictionnaire" - словаря, решающего вопросы использования языка. Повсюду в провинциях еще бурлила изначальная языковая жизнь, но отныне только в Париже решалось, что с языковой точки зрения следует считать французским, а что нет.
Эти коротко описанные события не находятся друг с другом в причинно-следственной связи. Но любопытно и в то же время для развития французской культуры симптоматично, что они произошли одновременно. Следует полностью воздержаться от того, чтобы их каким-то образом критиковать, потому что в такой форме они не смогли бы произойти в других странах. То, что искалась и была найдена наиболее выигрышная центральная точка, это было решающим для истории французского духа, это соответствовало самобытности французской души.
Во Франции обнаружился центр, из которого можно было разбрасывать и сеять семена по всему миру, и это имело большое значение для продолжения развития европейской культуры. Один из популярнейших французских словарей, вышедший еще и в качестве разговорника, был снабжен девизом " Je seme a tout vent ", что можно перевести словами "я сею по всем ветрам" или "я разбрасываю семена повсюду". Эти слова можно принять за проявление того, что исходило из центра французской культуры.
В этом аспекте уже шла речь о многих явлениях моды, может быть, тривиальных, но все же имеющих свою значимость. Для мира возможность рассыпать семена по всем ветрам оказалась более значимой, когда в конце восемнадцатого века произошла французская революция. Происшедшее тогда в Париже было для истории землетрясением, которое не только пространственно охватило весь мир, но и отдается вплоть до сегодняшнего времени. Тогда во все человечество были вброшены поистине великие и важнейшие идеи.
При этом, если углубиться в процесс, многое в своеобразии французского народа можно прояснить и с другой стороны. С точки зрения поверхностной эта революция была праздником просветительства. Десятилетиями проводившийся блестящими умами анализ, а также критика, кажется, помогли пробиться всевозможным силам рационализма. Революция обретает пробивную силу, когда ее несут глухие, но сильные инстинкты массы. Но если взглянуть поглубже, то выставленные революцией лозунги свободы, равенства и братства таковы, что они для рациональных сил неосуществимы. Все рациональное склоняется к статике и к строго очерченным контурам. Здесь же было провозглашено нечто весьма и весьма динамичное. В качестве такового оно адресовано новым формам мышления, которым только еще предстояло из динамики родиться. И вот внешне революция терпит крах, будучи еще только в родовых муках. Она терпит крах от избытка неуправляемого иррационального начала, которое быстро вновь разбивает все, что оформилось рационально. Но крах революции таков, что раздается призыв, который звучит из восемнадцатого до двадцатого столетия и который не отзвучал и поныне.
Внешние мероприятия революции диктовались разумной частью души французского народа. Слабость этих мер, пожалуй, никто не понимал лучше Фридриха Шиллера - человека, которого революционный национальный Конвент произвел в почетные граждане новой республики. Шиллер уже на ранней стадии предсказывал гибель великой революции и ее поворот к реакции и реставрации.
Однако внутренние стимулы революции исходили от тепла, даже от огня французской душевности. Важно видеть, что права человека были в конечном счете провозглашены из Франции не по экономическим или социально-политическим соображениям. Их провозглашение было созвучно импульсу, глубоко укоренившемуся в душе народа - правовому энтузиазму.
Многие стороны французской культуры мы поймем и оценим, лишь прислушавшись к этому подспудно существующему в душе народа энтузиазму права. Это вело и к карикатурным рассуждениям о "народе нотариусов и адвокатов", но в этом же и важнейший центр притяжения. Из куколки гуманизма позднего средневековья или начала нового времени во Франции появилась яркая бабочка гуманистической идеи. Французы чувствовали себя адвокатом этой идеи перед форумом всей Европы. Тонкие оттенки осознания такой адвокатской роли живы в душе каждого француза. И потому в каждой душе живет и потребность быть в таких вопросах услышанным, а также глубокое удовлетворение от того, что ты связан с местом, из которого можно "разбрасывать семена по миру".
Развитие в девятнадцатом и еще больше в двадцатом веке все больше делало акценты на интересы технические, индустриальные и экономические. Таланты французской нации, какими бы свежими и многогранными они ни были, относятся в первую очередь не к этим сферам. И тем поразительнее, что голос правового энтузиазма поднимался вновь и вновь среди нараставшего стука и громыхания века машин. А такое громкое самовыражение опять же находится в своеобразном противоречии с другим французским талантом: со способностью говорить что-то так, что на деле сказано не все, и сказанное не обязывает. О такие противоречия не следует биться и тем более раздражаться в связи с ними. Если они продуктивны, то обогащают всю жизнь. Можно даже сказать, что настоящая жизнь всегда движется в продуктивных противоречиях. И к ярко выраженному стремлению быть адвокатом права и культуры добавляются еще и выдающиеся способности к классическим формам дипломатии. Ведь и она в свое время обрела мировой центр в Париже.
В какой-то из французских галерей висит небольшая картина, запечатлевшая для глаза то летучее настроение, которое больше слышимо, нежели видимо. Качающийся экипаж кажется уносимым медленно ступающей лошадью куда-то в бесконечное и нереальное по рассыпанным на безлюдной дороге красным и желтым листьям. Сквозь окошки видны головы молодой пары. Кучер на козлах заснул. Но на запятках сзади сатир, играющий на флейте. И картина незаметно перекладывается на слова и срастается с осенью.
Звук флейты пастушьего бога в природе,
И листья мелькают в своем хороводе…
Есть впечатления, глубину которых не передать ни словом, ни картиной. В лучшем случае им может соответствовать звук. Для того зеркала золотого уходящего, которым Франция бывает осенью, пожалуй, лучшим переводчиком стал русский композитор Мусоргский с его " Tableaux d ' une exposition ". (24) Во второй части этой "галереи", в "Vieux chateau" осеннее золото озвучивается темными насыщенными тонами ; но это не только золото одного единственного осеннего дня. Все сияющее издали прошлое звучит здесь же грустно и в то же время удовлетворенно. Равель в своей оркестровой обработке полностью связал эскизы Мусоргского с французской действительностью.
Весна и осень: прозрачное воздушное анданте и слегка завуалированное скерцо. Здесь Франция говорит своими пейзажами так, что мы непосредственно слышим ее естество.
А разве в этом нет намека и на ее духовную роль в Европе? Ее весна одарила Европу и весь культурный мир многими побудительными импульсами. И не следует ли ожидать еще много драгоценных, особенно полезных даров от зрелого периода ее истории?
"О гении Европы", из главы о Германии
Есть такие творения и предметы, которые узнаваемы даже по мельчайшим своим проявлениям. Два или три такта из бетховенской сонаты для фортепиано, "Горные вершины" Гете, единственная строфа из комедии Данте, один единственный диалог из Шекспира, - только этого хватило бы для признания уникального гения, даже если бы все другие произведения этих творческих умов были бы утрачены. Пришлось бы спрашивать: какой это мастер сделал эту работу? Потому что только очень большой мастер мог создать что-то подобное.
Аналогичным образом у каждого народа могут быть вещи, о которых можно сказать: достаточно только их, двух или трех, и их самих по себе уже хватит, чтобы засвидетельствовать о душе народа. Мы поговорим далее о трех шедеврах такого рода, представляющих, по нашему мнению, всю Германию в малом. Не то чтобы мы считали способными на такое только их. Но они, конечно, относятся к наиболее выразительным.

Прежде всего это литография Альбрехта Дюрера "Рыцарь, смерть и дьявол". Мы опустим то, что дает культурно-исторический анализ этой картины, которая анализировалась уже сотни раз. Мы не чувствуем себя компетентными и в исследовании символики, значимой до мельчайших деталей. Но основной духовный замысел понятен даже и наивному зрителю. Рыцарь в поздний уже час скачет через пропасть или ущелье, в котором властвуют смерть и дьявол. Признаки смерти разбросаны повсюду и как бы говорят о том, что она часто одерживала здесь победы; конь под рыцарем принюхивается к запахам тления. Смерть показывает рыцарю песочные часы с заканчивающимся песком, как бы желая сказать: не стоит скакать дальше, ты уже не достигнешь цели. Если смерть занимает позицию впереди рыцаря, то дьявол с огненными глазами прячется за седлом животного и наставляет копье между его задних ног. Голова у дьявола в виде свиного рыла; кривой рог показывает противоположность его единорогу, являющемуся воплощением высших очистительных сил. В облике свиньи дьявол воплощает в себе все чувственно-вегетативные силы, превращающие человека в животного.
У рыцаря внешне не заметно никакого напряжения. Поводья он отпустил, копье держит легко. Он полностью в самом себе, глух к нашептываниям смерти и дьявола и, кажется, знает только одно направление: вперед. Неизвестно, увидел ли он уже свою цель - светлеющий в вечерних сумерках замок. Одного поворота головы ему бы хватило, чтобы замок был виден. Но может быть, подобное отвлечение оказалось бы здесь слабостью и искушением. Он должен видеть цель внутренним взором, только так может он прорваться. Взглянув еще раз, мы увидим, что у него меч идет перпендикулярно копью. Но на картине видна только нижняя часть поперечины с мечом; верхняя же должна пройти сквозь смерть. Рыцарь должен удерживать ее внутренним усилием, преодолевая смерть. Сам он весь стал воплощением силы "я", частью фигуры креста, завершить которую - значит воплотить историческую христианскую фразу " in hoc signo vinces " - "под этим знаком победишь".
Прекрасно показано, что целеустремленность рыцаря передалась даже его собаке. На первый взгляд, она забилась под ноги коня, но и она устремлена вперед. Ее движение показывает, что уже в следующее мгновение она помчится по свободной дороге к замку.
При виде литографии вспоминаются две немецких крылатых фразы, произносимых от души: "Иди же, смерть, я не боюсь!", а также слова Лютера: "Пусть полон мир чертями будет, и нас захочет проглотить,- в нас страха нет, нас не убудет, и мы сумеем победить".
Но с учетом немецкой духовной истории можно подумать и еще об одном. Картины, подобные этой, даже таким великим художником, как Альбрехт Дюрер, могли создаваться только на основе вполне определенной субстанции, предопределенной столетиями. Мы думаем, что нам эта субстанция известна. Не она ли описана в "Парцивале" Вольфрама фон Эшенбаха, где показаны испытания и победы личного "я"? И там тоже указан путь к замку Грааля.
Если посмотреть на области, традиционно отнесенные культурным миром к числу немецких , то в глаза бросится их географическое разнообразие. Здесь на сравнительно небольшом пространстве представлены почти все виды ландшафтов, за исключением тех, что встречаются в арктических и в субтропических районах Европы. Мы обнаружим равнины, низменности, плоскогорья, средние и высокие горы, болотистые местности с их своеобразной флорой и фауной, дельты рек, мелководья и простирающиеся вдаль дюны. Ни один из этих видов не способен в одиночку определить собой облик страны. Все они вместе как будто направляются огромной созидающей рукой в свободном творческом порыве и поддерживаются в тонком и гибком равновесии между собой.
В такой земле, как Вюртемберг, множество характерных географических мотивов скучено на еще меньшей территории. Вообразить только, сколько пришлось бы поездить по такой стране, как европейская Россия, чтобы поочередно увидеть столь разные виды, как область горных пастбищ, Шварцвальд, болотистый ландшафт Федерзее, высокогорье швабского Альгея и вид Боденского озера. К тому же эта небольшая область связывается через Некар и Рейн с Северным морем, а через Дунай имеет идеальную связь с Черным морем. Короче говоря, в противоположность важной и решающей в других местах тенденции к монотонной однообразности здесь на первый план и в большом, и в малом выходят индивидуальные особенности.
Показательно, что эта ландшафтная индивидуальность повсеместно проявляется и в культуре немецкой средней Европы, в разнообразии вариантов языка, даже в социальной и в политической сферах. Многообразие и индивидуальные особенности доводят здесь даже до раздробленности. Но показательно и то, что географическая особенность, указанная в начале, - идеальное соотношение с центральным пунктом - не находит себе параллелей в создании страны. Только силой и только на время удавалось создать подобный центр. Под решающими ударами судьбы он каждый раз опять исчезал. В этом состоит типичный для немецкой центральной Европы феномен, о котором будет сказано подробнее в другом месте.
Как отмечалось в главе об Англии, мы страдаем от нарастающей урбанизации целых стран. Сами города растут и становятся гигантскими, но еще больше их самих поля исходящего от них излучения, а правильнее было бы сказать - поля загрязнения. Они простираются вокруг и даже вверх на многие десятки миль. Для таких областей, заполненных и ночью всегда недремлющим прозаическим освещением, особенно характерно одно: им не хватает таких вот таинственных теней. Вообще мало внимания уделяется тому, что наше процивилизовавшееся время последовало примеру известного Петера Шлемиля у Адальберта фон Камиссо: оно продало свою тень. Тени, а с ней и души не хватает нам и в ограниченном пространстве, в котором мы живем, и в большом пространстве, сквозь которое мы проходим в спешке.
В противоположность такой среде немецкий лес, хоть и небогатый на силы стихий, воздействует своей все еще витающей сумрачностью, своими все еще живыми тенями так, словно это сохранившееся царство духов. Совершенно не случайно именно романтики по-настоящему открыли это царство для себя и для всего народа. Но они скорее одурманивали себя лесом или прятались в нем от окружения, ставшего невыносимым. Из сокрытых в нем духовных источников они за немногими исключениями не пили. Может быть, потому, что их собственное время было все еще богато тенями. В наше время бедности на живые тени отдельные люди и группы людей заново открывают лес, ухаживают за ним в соответствии с его естеством, даже расширяют его. Их стремления с романтикой не имеют ничего общего. Но раз они в целом стремятся к оздоровлению ландшафта, они помогают оживить кое-что от того лесного чуда, без которого душа немецкого народа не была бы вполне самой собой.
Мы не станем много говорить о том, что большинство этих домов украшены символами, которые, осознанно или нет, относятся к германской древности. По своему общему эстетическому воздействию фахверковый дом напоминает руническое письмо. Не запрятано ли в нем уже неощутимое ныне прошлое, таинственные слова, предназначенные для будущего?
Как вообще мы должны воспринимать эти видимые несущие балки - как скелет, как кровеносные сосуды или как что-то еще? История развития конструкции указывает нам на многозначительную связь. Оказывается, конструкция эта относится к тому виду жилищ, которые появились, когда люди начали сооружать себе кров в лесу: с опорой на деревья сплетали кусты и ветви, постепенно наполняя их глиной или другим связующим материалом. О лесных хижинах подобного рода мы говорили, когда речь шла о финских лесных жилищах, в которых Элиас Леннрот впервые слушал певцов "Калевалы". Языкознание намекает нам на то, что в древнегерманских поселениях речь шла как раз об упомянутом плетении ветвей и сучьев. Готическое слово " tainjo " принимается ныне только в значении "плетение корзины", от него происходит верхненемецкое слово " Zaine " - "корзина". Родственная связь просматривается и с англосаксонским " tan " (переплетенные прутья) и так далее. Но как можно услышать из уст классических германистов, " tainjo " было не только "плетением корзин", но и примитивной хижиной из переплетенных ветвей. Таким образом, это жилище предстает перед нами как рожденное в лесу. Значит, фахверковый дом есть нечто вроде абстракции от первоначальных природно-органических лесных построек, но абстракции весьма живой и все время художественно развивавшейся все дальше и дальше. Есть отдельные роскошные крестьянские дома, в которых первоначальный мотив фахверковой постройки искусно разделен на части. Но посмотришь на один из вестфальских крестьянских домов во всей его простоте и силе, увидишь, как он выглядывает своим расчлененным фасадом из окружающих его деревьев, и получишь убедительное напоминание о его происхождении. И появится мысль, что лес не хотел отпускать немцев в прежние времена, даже если внешне и отдалялся от них.
Если уже в первых же главах этой работы мы были вправе увидеть в гласных звуках чувствующий элемент души, то из следующих характерных особенностей строя немецких гласных мы увидим кое-что, характерное для немецкого народного духа. Гласные неохотно выступают в голом виде, а предпочитают облекать себя в платья из согласных. И это действительно следует считать проявлением немецкого народного духа, который не любит свои эмоции и чувства выражать непосредственно. Редко встречаются гласные окончания слов, за исключением " E ", который заканчивает собой множество форм глагола, - ich gehe , ich suche , ich meine , dass er wisse - и так далее и тому подобное. Гласные окончания чаще встречаются в междометиях и близких к ним небольших словах, что только подтверждает наше наблюдение. Но где бы встретить такое изобилие гласных окончаний, какое мы в свое время услышали в стихах Петрарки:
Solo i pensoso i piu deserti campi
vo misurando a passi tardi elenti.
В этой связи интересно взять какой-нибудь сборник немецких стихов и посмотреть на конечные рифмы. Сразу же обнаружится, что очень редки рифмы, построенные на полном и чистом эффекте ничем не прикрытых гласных звуков.
В такой речи всегда есть что-то от тех молоточков, о которых мы вспомнили, когда знакомились со стихами "Калевалы" в главе о Финляндии. При некоторых начальных согласных, особенно если они связываются аллитерацией, молоточки слышны еще отчетливее. Так, например, в ярком учебном примере Рудольфа Штейнера:
Komm , kurzer kraftiger Kerl .
Приди, короткий крепкий парень.
Достаточно всего лишь энергично произнести это несколько раз, чтобы стало понятно, что именно французу неизбежно покажется "отрывистым". Создают этот своеобразный феномен сразу три фактора: ударение на корневые слоги, паузы и так называемый "твердый приступ" в начале некоторых согласных. Правда, последнее не слышится при южнонемецком варианте произношения.
В ходе наших дальнейших исследований мы еще попытаемся понять поглубже необходимость использования в речи пауз, без которых немецкий язык перестал бы быть немецким. Сейчас просто бросим взгляд на этот феномен. Эти паузы никак не переносятся в такой близкий и родственный язык, как нидерландский. (102) Не то, чтобы нидерландская речь лилась бы таким же потоком, как французская. Но паузы там другие, нежели в немецком языке. Автору в этом отношении довелось самому приобрести смешной и довольно показательный опыт. Он уже имел достаточно большой запас слов и мог без особых усилий говорить по-нидерландски, но паузы делал поначалу в соответствии со строем немецкого языка. И вот по ходу его фраз на голландском языке доброжелательные и дружески настроенные слушатели все время как бы подбрасывали ему спасательные круги, подсказывая различные нидерландские слова и выражения. Часто ему приходилось говорить: "Да знаю я давно и то слово, и это!" Тогда ему говорили: "А чего же ты медлил его произнести?"
Другой феномен, очень заметный для иностранца, - это бесконечные предложения, от которых "перехватывает дыхание". Приведем пример из большого воспитательного романа Адальберта Штифтера "После лета". Это сцена, в которой описывается посещение столярной мастерской. На заданный вопрос даются объяснения по разным видам работ. В данном отрезке речь идет о резьбе и ремонте алтарей.
"Теперь, установив, что мы ничего не будем изменять в существующих связях, что ни одно украшение не будет перемещено в другое место, что ни одна фигура не будет изменена в лице, в руках или в складках своего одеяния, а что мы, наоборот, хотим сохранить только уже имеющееся в его теперешнем облике, чтобы он дальше не разрушался, что материал там, где он испортился, мы хотим заменить таким материалом, чтобы сохранилась целостность, что из добавок мы применим только мельчайшие вещи, вид которых хорошо известен по аналогичным изделиям и которые могут изготавливаться с тем же совершенством, что и старые, и, далее, сделав рисунок в цветах, показывающий, как будет выглядеть очищенный и восстановленный алтарь, и, наконец, когда мы восстановили и представили на обозрение небольшой объем резьбы, отдельные фигурки и тому подобное: давайте удостоверимся."
Чтобы хорошо понять характерное явление, стоит обратить внимание на то, сколько здесь нагромождено и впихнуто мелочей между вынырнувшим в конце "давайте удостоверимся" и начальным "теперь".
Мы совершенно не собираемся судить, идет ли здесь речь о стилистическом пороке или же добродетели. Правда, Фридрих Геббель называл порочным весь стиль произведения "После лета". Однажды он возмущенно воскликнул, что даст "корону Польши" тому, кто сумеет штифтерское "После лета" дочитать до конца. Очевидно, Геббель не подозревал, что в таком случае эту корону заслужил не один великий ум, среди них Фридрих Ницше даже трижды. Но что здесь представляет непосредственный интерес, так это повторение на уровне литературы того, что часто случается в жизни: человек сурово осуждает то, что невольно делает сам.
Геббелю пришлось весьма явственно испытать это на себе, когда ему удалось нарушить одиночество философа Артура Шопенгауера. Состоялся короткий разговор, который со стороны Шопенгауера сводился больше к ворчанию и к мычащим звукам. Когда же Шопенгауер наконец понял, кто это обращается к нему с подобострастной вежливостью, он воскликнул: "Друг, Вы совершили непростительное преступление!" Геббель был весьма смущен и пролепетал что-то о том, что пока что не знает за собой каких-нибудь тяжких преступлений. Но Шопенгауер не оставал: "Вы во введении к своей "Марии Магдалине" написали предложение размером со страницу. Но самое ужасное: это предложение не закончено". Престарелый философ, для которого ясность стиля была воздухом его жизни, вложил в эту критику, пусть и с налетом юмора, но всю свою ярость, которую он сдерживал многие годы. И порицание его объективно обосновано: в первом издании "Марии Магдалины" действительно есть то чудовищное предложение, которое привело его в ярость.
Но в наши намерения вообще не входит полемика с тем или с другим. Мы хотим только показать, что в определенную эпоху развития немецкого языка существительные с большой буквы появились не просто как разновидность канцелярских выкрутасов, а что они соответствовали всему характеру языка, каким он бы. При наблюдаемой ныне во всем немецком языке тенденции к прописным буквам (например, в определенных формах наречий) существительные, столь выделяющиеся сегодня, будут, видимо, уравнены с другими словами. Но по нашему разумению в этом случае должен одновременно измениться и стиль письма. Точке как пограничному знаку предложения придется работать намного больше, а с ней, видимо, и многоточию.
Признаки такого рода уже отчетливо заметны, особенно в передачах новостей, которые по форме сильно отличаются от того, что было принято в начале двадцатого столетия. И уже появились умы, радостно забегающие вперед, втайне или открыто ликующие в связи с уже проявившейся тенденцией.
Разве - говорят они - в этих подобострастно написанных существительных не проявляется роковая склонность немца к завышенной оценке вещей вследствие преувеличенной деловитости, к блужданиям вокруг самим же им созданных авторитетов? И как же будет хорошо, если с этим пережитком уйдет в прошлое и вся эта обстоятельная возня старого письменного стиля!
Да! И даже более того: нет! Ведь следует видеть и то, что за так называемой обстоятельной возней и замечаемой поначалу необозримостью предложений есть некоторые предпосылки и возможности, которые непозволительно утрачивать. Они должны обрести новую форму до того, как будет сломана старая.
О каких предпосылках и возможностях идет речь? Попробуем вновь подойти к вопросу с сугубо феноменологической точки зрения. Вспомним еще раз примеры, взятые из "После лета" Штифтера, - приведенный в этом разделе и тот, который был представлен под заголовком "Разорванная речь и червячные предложения". Последний пример начинался словами "лишь когда мы представили…" и после джунглей со всякими вводными заканчивался словами "давайте удостоверимся". Теперь представим себе, что эти примеры кто-то не сам читает, а что читают ему. Что произойдет? Выявится заметное различие между слушателем, для которого немецкий язык родной, и любым другим слушателем, более или менее основательно изучившим немецкий язык в качестве иностранного. У иностранного слушателя, если только он не обучен совсем уж по-особому, от конструкции такого рода очень скоро перехватит дыхание. Он по-настоящему почувствует себя в том, что мы с некоторым преувеличением назвали словесными джунглями. Иностранцы едва выдерживают, пока явится часть речи, которая "наконец-то обучает и просвещает сознание". Нить обрывается. А когда в конце концов, как в вышеприведенном примере, появятся слова "то видно, что люди… все еще только в начале пути", то иностранец почувствует то, о чем Шиллер говорил: "Мой господин, смысл речи темен был". Скорее всего он еще темнее в другом примере, когда после слов "лишь когда мы представили" и после километров тяжкого словесного пути наконец-то появится спасительное "давайте удостоверимся".
Совсем иначе у слушателя немецкоязычного. Сразу же после вступительных слов "когда смотришь на произведения" и т.д. слух у него переходит в режим ожидания. Он чувствует: тут что-то еще появится. И ожидание этого "чего-то" приводит его в состояние легкого напряжения, оно даже едва заметно влияет на его дыхание. Он не просто пассивно слушает, а активно вслушивается. И когда прозвучат те самые слова "то видишь, что люди" или "давайте удостоверимся", то в глубине сознания он констатирует: ага, вот то, чего я ждал. Довольный, он делает вдох, и напряжение в тот же миг исчезает. Что же произошло? На едином дыхании он словно по своду прошел над тем, что мы назвали джунглями, - над всеми этими пространными определениями и расширениями. В качестве слушателя он натянул тетиву на свой лук.
Многое мы лучше будем знать о немецком языке и о немецком духе, если поймем, что в немецкой речи одинаково важны две вещи: прорывающееся в паузах "я" и натянутые, словно лук, обширные предложения. И если начать с последнего, то именно благодаря такому луку становится возможной некая беззаботная подвижность для в основном все же зависимых частей речи. Вновь мы видим это своеобразное явление разбросанности органов - " disjecta membra ". Последний раз мы говорили о нем, когда речь шла о своеобразной структуре британской империи. Вспомним: часть в Северной Америке, часть в Австралии, другая часть в Индии и так далее, и все это держалось вместе, как будто так и надо. Тогда мы были вправе сказать, что только народный дух с сильным самосознанием мог позволить себе подобную затею, что в ней этот народный дух отчетливо проявился. Как бы абсурдно и вызывающе это ни звучало, но в принципах построения немецких предложений господствует созидательная сила, родственная тому лейтмотиву, по которому исторически формировалась Англия. Но здесь, в сфере немецкого языка, не столько проявляются духовные силы самосознания, сколько царят иррациональные силы "я", охарактеризованные ранее.
Такое же большей частью иррациональное господство "я" и его активность мы неожиданно можем увидеть и с обратной стороны описанных здесь явлений. В строе немецкого предложения - за исключением языка некоторых выдающихся стилистов - и близко нет той ясности, которая присуща, например, латинскому языку. Отношения подчиненности совершенно непрозрачны. Управляющее и управляемое мало различимы, живое имеет преимущество перед оформленным. Если в латинском языке винительный падеж не случайно выделяется среди всех падежей, если он как бы символически "правит" всем языком, выражая его дух, то о немецком языке можно сказать иначе. В переносном смысле можно сказать, что он не управляет винительным падежом и никаким винительным падежом не управляется.
И тем самым еще один луч света попадает на рассмотренную нами теневую сторону.
Вещи, о которых мы здесь говорим, уже описаны рукой более профессиональной или же должны быть ею проработаны еще глубже. Мы же довольствуемся тем, что сугубо по-дилетантски выделим один единственный феномен: паузы в музыке Антона Брукнера. В связи с нашим среднеевропейским происхождением и образом жизни они до сих пор казались нам как бы естественными, но вот однажды мы заметили, что они могут быть и проблематичными. Это произошло после одной весьма выразительной и красивой постановки симфонии Брукнера в одной из западноевропейских стран. Там мы встретили молодого зрителя, сына той страны, который был весьма неудовлетворен "музыкальным событием", расхваленным всем светом. Автор попытался разными способами познакомить его поближе с творчеством и с личностью Брукнера, не в последнюю очередь намекая, что эта великая музыкальная личность пошла дальше по пути, однажды избранному немецкой музыкой. "Да что там, - недовольно воскликнул собеседник, - эта музыка сплошь из одних только пауз!"
Автору, разумеется, пришлось рассмеяться. Преувеличение было слишком явным, гротескным. Однако впоследствии ему пришлось часто вспоминать это высказывание, и ему стало казаться, что оно говорит о многом, даже об очень многом. "Сплошь из одних только пауз" - это, понятно, значит, что пауз многовато. Но почему тому слушателю мешало обилие пауз?
Мы возвращаемся к феномену, которого несколько раз касались при рассмотрении немецкой речи. Это та прерывистость или "разорванность" речи, которые замечаются в немецком разговорном языке иностранцами, а также немцами из средних земель в верхнеалеманском языке у швейцарцев. Тут повсеместно большие или малые паузы, без которых немецкий язык немыслим. Но почему? Почему они являются потребностью для говорящего на немецком языке как на родном? Потому что для него пауза не является нулевым отрезком, а таким, в котором много чего происходит. Мысль, выражающая себя в словесных сообщениях на уровне разума, на короткое время заявляет о себе в своем собственном естестве, не зависящем от слова. Видимо, можно сказать, что она переводит дыхание, уходит в иррациональное, в значительной степени в чувственное. В паузах что-то происходит. В паузах открывается щель для духа. То есть там, где они наступают, не зияющая пустота, а легкое, очень быстрое самообдумывание, мимолетное, но действенное воспоминание.
Есть и другая функция у наступающего посреди речи короткого или более длительного молчания. В процессе говорения мы равномерно втискиваем себя в слушателя или в слушателей, мы мимоходом запечатлеваемся в них. А когда мы замолкаем и вновь вдыхаем в себя собственное "я", у слушателя глубоко в душе происходит выдох. Таким образом, паузы опосредованно влияют на свободный характер беседы, отнимая у слов их слегка опьяняющие, внушающие свойства.
Так по крайней мере в естественных человеческих отношениях. Нельзя не упомянуть и о том, что и паузы, подобно любому ангельскому дару, могут при злоупотреблении ими обернуться чертовщиной. Но останавливаться здесь на этом неуместно.
На что мы сейчас хотели бы направить свой взор, а лучше свой внутренний слух, так это на то, что брукнеровская пауза содержит в себе на высшем музыкальном уровне все, что живет в немецкой речевой паузе, гениально соответствует ей и весьма близко ей родственна. Она на музыкальном поприще, посреди концертного зала обращается к творческим личностным силам слушателя. Там, где музыка внешне замолкает либо снижает свои внешние проявления до минимума, там на самом деле должно произойти рождение. И мы призваны быть этому не только свидетелями, но и соучастниками. Это и в самом деле соответствует происходящему в вихре времен становлению сегодняшнего или завтрашнего человека, который сам по себе прорывается к брукнеровской "беседе с богами под новым знаком".
Разумеется, нелегко обнаружить господствующий в огромных сводах немецкого предложения порядок, хотя мы все же смогли почувствовать в них музыкальность или даже симфоническое начало. Такой же принцип, в котором, без сомнения, есть своя известная одаренность, проявился во множестве вариантов во всем укладе жизни в немецкой средней Европе. В позитивном смысле, вероятно, в организационном таланте, который признается за немцами многими иностранцами. Организация - это ведь главным образом способность размещать вещи в пространстве и во времени таким удачным способом, что они с наименьшими издержками приносят наибольшую пользу или становятся наиболее плодотворными. В идеальном случае они как бы начинают действовать с высочайшей экономией и с полной определенностью, как части организма. Способность к такой организации можно во многих случаях приветствовать как счастливый дар, как подарок судьбы.
Однако любой организации присущи свои опасности. Это связанное с ней слепое желание устанавливать и распространять порядок ради порядка и там, где он не подходит ни к пространству, ни ко времени. Ведь каждый кусочек земли, каждая часть пространства имеет свою собственную индивидуальность, требующую к себе внимания, не позволяющую "заорганизовать" себя. И время, надвигаясь на нас из будущего, не хочет сразу же лишаться дыхания жизни и утрачивать возможность удивить нас, неожиданно расслабить или взбодрить. Однако дыхание у него исчезает, если оно до последнего кусочка "заорганизовано".
Все эти теневые стороны порядка, наряду с творческой организацией, встречаются в немецкой средней Европе на каждом шагу. Тут стремление согнуть и сломать все на свете при помощи управления, что в свою очередь невозможно без известного нароста бюрократии. Там во всевозможных рабочих планах на совещаниях, конференциях и конгрессах готовится та монстровская программа, которой забиты все часы с утра и до вечера. Кажется, что составителям и авторам подобных программ человек, насколько они вообще о нем думают, представляется только в виде существа поглощающего. Об этом свидетельствует то, что перерывы для приема пищи все-таки предусматриваются. Но то, что человеку и вздохнуть захочется, им, кажется, совершенно неизвестно. В результате иностранные участники подобных мероприятий, дабы не упасть в обморок и не сойти с ума, вскоре составляют свою собственную дневную программу с заметными пробелами во времени. Однако организаторы с немецкой стороны очень от этого расстраиваются. Их рабочий план построен весьма логично, и они опасаются, что все пойдет прахом, если к этому плану подойдут как к обильному шведскому столу, с которого можно по желанию брать, а можно и не брать.
В явлениях такого рода можно увидеть не только оборотную сторону немецкого организационного усердия. Среднеевропейскому немецкому жителю свойственно подходить ко всему, что он хочет сделать, с большой и даже с очень большой степенью интенсивности. Кажется, он не очень-то доверяет завтрашнему дню и хочет сделать сегодня возможно больше. Больше всего ему хочется как-то гарантировать завтрашний день его сегодняшней деятельностью. Поэтому он не понимает флегматизма или спокойствия, с которыми другие подходят к работе. Столь же мало ценит он так называемое " laisser alle ". Такую интенсивность необходимо присовокупить к стремлению к порядку, чтобы лучше все это понять; ведь оба явления действуют не только в рабочее время, но и в часы досуга. В последние, как это ни парадоксально, тоже может проникать известная деловитость. Вот почему немец, хотя и добивается своей прилежностью больших результатов, но в широких и в узких сферах жизни зачастую принимается за нарушителя спокойствия. И это странным образом происходит вопреки всем объективным признаниям.
Сами немцы считают в своей жизни неприятными и даже возмутительными два комплекса: манию функционера и повышенное внимание к мелочам. Причем дело обстоит вовсе не так, чтобы мания функционера, то есть извращенное представление о своей деятельности, была бы связана с профессиональными служащими. Кажется, она является латентной и проявляется в ситуациях самых невероятных. Например, может случиться так, что маленькому скромному "Кому-то" - в рамках, между прочим, дружеских отношений - на день доверили обслуживание выгребной ямы. Глядишь - и этот "Кто-то" преобразился. В одно мгновение он буквально свихнулся от своего поручения и странным образом видит в нем нечто такое, что придает ему некий вес - достоинство функционера. От скромности его ничего не осталось, он разгорячен, упрям и чувствует себя вправе наорать на товарищей. Случай этот не придуман, а взят из опыта. Что в нем проявилось? Та самая мания функционера, то есть преходящая либо хроническая душевная лихорадка, которая заставляет заболевшего ею видеть все так, что не он обслуживает, а, наоборот, другие, для которых он и был назначен, обязаны быть к его услугам. И может случиться и так, что при таком извращенном понимании проделывается так много работы, что само это понимание узаконивается. Вспоминаются слова Томаса Пейна, приводившиеся в главе об Англии: "Если давно уже привыкли рассматривать предмет в извращенном и в ложном свете, то такое положение для виду узаконивается".
Повышенное внимание к мелочам лучше всего показывает ежедневно, миллионами раз повторяемое в немецких ресторанах, даже и за пределами границ Германии: "А скажите, пожалуйста, сколько кусочков хлеба?" Хотите ли Вы поесть картофельный суп, заказать дневное меню, устроить для друзей праздничное угощение из многих блюд, закусок и десертов, - все равно с одинаковым усердием будет задан вопрос: "А скажите, пожалуйста, сколько кусочков хлеба?" И даже если счет пойдет на сотни, и прибыль ресторана станет более чем очевидна, все равно одиозный вопрос непременно прозвучит. Постепенно к нему так привыкаешь, что и сам уже высчитываешь деньги на ресторан примерно так: три кусочка хлеба, пять порций малосольной икры, шесть бефстроганов и т.д. и т.п..
…Но все это не снимает того, что и там, где люди и вещи стеснены, может даже в еще большей степени процветать одна добродетель, на которую обращал внимание соотечественников Фридрих Шиллер - добродетель грации.
В немецкоязычной средней Европе есть области, в которых данная фея пребывает с особым желанием. Кто в этой связи не вспомнит об Австрии?
Мы не отважимся решать, была ли эта страна, тоже прошедшая столь тяжкие испытания и благословенная столь большим культурным наследием, совсем уж избавлена всегда от организационной лихорадки. Однако ясно, что там работают хотя и интенсивно, но не по принуждению, и что там существует свобода от мелочных расписываний времени.
В живой речи зачастую один единственный слог, даже один единственный звук может быть показателем глубоких духовных особенностей. Так, между прочим, и было, когда немец из северной Германии и австриец договорились встретиться и побеседовать в пять часов после обеда. В пять часов , как понял немец из северной Германии. Он был на месте точно во время, но австрийского приятеля не было видно. В пять минут шестого, в десять минут шестого, в четверть шестого австрийского партнера все еще не было. Немец с севера начал ходить взад-вперед, поначалу беспокойно, а потом все более ожесточаясь. Незадолго до полшестого, широко улыбаясь, явился, наконец, тот, кого ждали. Он нисколько не торопился, подходил безо всякой спешки. "Ну, наконец-то, - проворчал немец с севера, - я тут ждал до посинения! Ты же сказал, что будешь в пять!" Австриец покачал головой: "Я этого никогда не говорил!" - "Ну конечно, говорил! - настаивал немец. - А что же ты говорил?" - "Я сказал um - a funf - около пяти". Немец некоторое время глядел на него, не понимая. А потом разразился хохотом и похлопал по плечу приятеля, которого в общем-то очень любил. Да, так и было! Он не услышал " a ", добавленное к " um ". А каким же значимым было это маленькое " a ": оно означало заявку, выставленную своей собственной личностью к своей же собственной личности, заявку на свободное, не рабски-педантичное отношение ко времени. Слово " um - a " в противоположность жесткому, обрывистому " um " обладает ценным качеством растяжимости, оно превращает время в воск, который можно лепить по своему усмотрению. Все это, разумеется, на фоне обычного изящества австрийских нравов. Но даже если сам принадлежишь стране, о которой пишешь, все же нельзя допускать преувеличений в негативных либо позитивных оценках. И в самой по себе Германии повседневно встречаются неожиданные возможности свободно пройти сквозь всю бюрократию.
Например, не так давно где-то севернее Ганновера на железнодорожной станции остановились скорые поезда разных направлений, нарушив все расписание ночного движения по железной дороге. Причина была в том, что где-то на другой станции женщина с детьми из Скандинавии села не в тот поезд и разминулась с мужем, поехавшим на другом поезде. Происшествие закончилось к полному удовлетворению его участников. Хроника не повествует о том, вызвал ли этот случай только радостные чувства у окружающих, но все же ими было проявлено одобрение и понимание.
В конце концов, и в средней Европе справедливы слова Гете, что для человека все же самое интересное - это человек. И если даже есть склонность к педантизму, то и здесь все же готовы во имя человечности перешагнуть через все сомнения. И вдруг исчезает мания функционера, и находятся служащие, которые оформляют все необходимые документы человеку, попавшему в беду, искренне доверяя его искренности. Автор много раз был свидетелем таких событий. Можно, конечно, сказать, что это исключения. Но где такая страна, где подобное было бы правилом?
Русское пространство, "Espace" и "Raum".
"Не переживший этого не может составить себе правильное представление о русском пространстве. Это относится как к его протяженности, так и к его качеству, то есть к его внутреннему содержанию. Давайте же сядем на маленькой станции на один из поездов дальнего следования и поедем в восточном направлении, все дальше и дальше, и вскоре мы получим своеобразные впечатления.
Мы хорошо запомнили вид небольшой станции: типичный фасад с типовым распределением помещений и мест ожидания, стоящие или сидящие на земле небольшие группы пассажиров, явно вооруженных неистощимым терпением в ожидании какого-либо средства сообщения… Разговор всех этих стоящих и жующих людей совсем не тот, что мы знаем по итальянским пьяццам и галлериям. В нем нет ничего внезапно пульсирующего, взрывного. Медленно тянется он, подходя лишь иногда у женщин к "престо" или "престиссимо". Если вслушаться, то, между прочим, в любом месте и в любой час наткнешься на хорошую шутку, на тонкое и трезвое наблюдение, на удивительно меткое суждение.
Такую картину мы увидели на станции и такой запечатлели ее своими внимающими органами. Внимающими в самом прямом смысле слова, хотя внешне впечатления поначалу несколько окрашены в серое. И вот мы ехали все дальше и дальше на восток, час за часом, весь день и всю ночь. То там, то тут мы останавливались на более продолжительное время и немного освежались. Подступавшую душную тяжесть поездки мы вновь и вновь отгоняли "стаканчиком чаю" - ein Glass Tee . Но перед утром снова задремали на нашем просторном спальном месте. И вот мы потягиваемся, встаем и глядим в окно.
Невольно протираем глаза: опять все то же самое, знакомое - фасад станции с его типовым расположением помещений, ожидающие люди с серыми мешками, искусные круги разбросанной семечной шелухи, тот же задний план станции, та же местность вблизи и вдали. Все и вся здесь. Мы хватаемся за голову. Была ли вся поездка только сном, неожиданно сморившим нас? Может быть, мы на самом-то деле так и остались на той первой станции? И говор, звучащий вокруг, не изменился. Если в Германии или в Италии достаточно проехать пару часов, чтобы встретить другое наречие, то здесь речь людей осталась совершенно той же самой. Кажется даже, что она в своем приятном и в то же время настойчивом своеобразии так и течет далеко-далеко по земле. Нам вдруг становится ясно, что эта речь так и будет сопровождать нас день за днем, пока мы едем на восток. А что будет с этой станцией, с людьми, с их вещами и со всем вон тем и вот этим? Да, они, конечно, будут здесь же и завтра, и послезавтра. Мы удивляемся, покачиваем головой и вдруг чувствуем теплоту на сердце. Ведь по сути, думаем мы, это прекрасно, это должно нравиться. Как чудесно: едешь-едешь, а хорошие знакомые, может быть, даже друзья тебя и провожают, и встречают.
Когда поезд снова поехал, нами овладевают и другие необыкновенные мысли. Хотя, говорим мы себе, и ходят здесь поезда с удивительной точностью. Долгие годы пребывавшее в младенчестве и в детском возрасте, железнодорожное дело выросло до настоящей зрелости. Но что значат в этой стране минуты, что значит час или полдня? Для путешественника во всяком случае немногое. Мы достаем часы и несколько снисходительно улыбаемся им. Они кажутся немного нервными в их непрерывном тиканье; не соответствуют больше ритму сердца. Нас охватило чувство безвременья, какое-то веселое и успокаивающее."
"Через какое-то продолжительное время мы просыпаемся и удивляемся, потому что слышим разговор на противоположном спальном месте. Но ведь там может лежать только один человек, - думаем мы в изумлении, - как же там может быть разговор? Бросаем туда взгляд: действительно, там только один. Но так же очевидно, что он время от времени разговаривает. Это простой человек из деревни, положивший себе под голову серый мешок с неизвестным содержимым. Он тоже едет по долгим дорогам, кто знает, как далеко. Но пока он едет, его, кажется, берут сомнения, стоило ли вообще отправляться в такую дорогостоящую поездку. Он беспокойно крутит головой. Не все понятно из того, что он говорит. Но можно разобрать что-то вроде: "Вот тебе и на, вот тебе и раз… За пять копеек не поедешь, милок, залезай в карман поглубже…. Эх, эх, эх, - кой черт тебя погнал… А дома плакать будут. Да что поделаешь, что поделаешь? … Нужно было, нужно…". Следует глубокий вздох, и тело находит новое положение. Последние слова звучат в нас. "Нужно было, нужно". Сколько русской судьбы, русской души в этом "нужно" или в родственном ему "надо"? И ничего такого особенного нет в том, чтобы среди этого народа найти человека, разговаривающего с самим собой. Здесь живут в обществе, думают преимущественно в ходе беседы. Вот беседа и продолжается, если думаешь в одиночку. Кроме того, собственную душу здесь воспринимают как маленького ребенка, которого всегда немного ласкают, но которому могут и пальцем погрозить. Однако в основном все это происходит спокойно, без лишних волнений.
"Бедный человек, - невольно думаем мы, - куда это он едет, и почему его "черт погнал"?" Хочется ему помочь, чувства к нему в этой обстановке самые братские. И не глядя заметно, как беспокойно он водит головой. Наверно, так же, как ямщик. Вот он опять, этот бесконечный мотив: "Качает буйной головой". И снова мы во сне.
Таким образом, мы могли ощутить кое-что от очарования русского пространства, будучи в поездке. Мы почувствуем его иначе, но столь же сильно, подойдя к краю необозримого поля с колышущимися зреющими колосьями. "Зерновой океан" - невольно думаем мы. В Норвегии близ шведской границы одно местечко называется "Kornsjo" - "зерновое море". Но только здесь, в России, такое название становится оправданным. Мы не в меньшей степени ощутим окрыленность и удаляемость пространства при виде золотых подсолнухов, стоящих до горизонта под голубыми небесными парусами. И мы думаем, что люди прошедших времен испытывали то же самое, когда от одного из уединенных монастырей поднимались звуки колокола и расходились далеко по земле, или же когда за этими звуками следовало глубокое, как пропасть, и теплое, как земля, пение монахов. И молитва тоже не оставалась на месте, а плыла за горизонт, притягиваемая вечной далью.
Нет, русское пространство не сравнимо с другим ни по своему "что?", ни по своему "как?". Русским словом "prosstransstvo" передается не то же самое, что есть в немецком "Raum" или во французском "espace". Наши употребимые европейские обозначения пространства подразумевают пространство в трех измерениях. Русское пространство имеет, если можно так выразиться, N измерений. Пространство лишь немного передается тем, что с поверхностной этимологической точки зрения означает "простирающееся". При более тонком восприятии оно значит "излучающее в бесконечность", "светящееся, как звезды". То, что в польском слове "przestrzen" есть в зародышевом состоянии, разворачивается в полную силу в слове "пространство". И если пощупать краешек русской народной души, то почувствуешь, что она не может свободно дышать ни в каком другом пространстве, кроме этого.
Этим своим качеством пространство изначально перекрывало что-то из теневых сторон географии, о которых мы упоминали во вступлении. Оно должно было уже давно само найти резонанс в душе русского человека. И эхо, идущее от человека, выражается в двух мотивах: в широкой натуре и в душе нараспашку. Широкая натура означает "большая", "великодушная" натура. Там, где есть возможность следовать своим склонностям, русский не любит заниматься мелочами и быть мелочным. Он не считает пфеннингами, центами или эре (скандинавская монета -В.С.) - ни в физическом, ни в моральном смысле. Он планирует большое, фундаментальное, а простая идиллия представляется ему слишком бюргерской. Если речь идет о переменах, то он не торгуется из-за пядей, а внезапно поворачивает на 180 градусов. В душе нараспашку, в "расстегнутой душе" проявляется стремление выражаться непосредственно и прямо, а также без обиняков и лишних условностей, как это делают там, где "пиджаки застегнуты на все пуговицы". Бывает, что и с соответствующим пренебрежением.
Бесконечному пространству, которое мы не совсем логично и точно называем словом "Raum", соответствуют и некоторые другие черты русской души и русской жизни. И прежде всего пара, стоящая друг с другом, подобно мажору и минору: удаль и тоска. О них уже шла речь в португальском разделе нашей работы, а слово "удалой" в несколько иной форме мы встретили в "тройка удалая". Конечно, языковеды правы, когда соотносят слово удалой по его происхождению с удачей - "удаваться", "иметь успех". Но в нем явно кроется и что-то другое, если свойство "удалой" даже в песенной поэзии о Кавказе относится к воинам, вождям и кому-то там еще. Конечно, это не имеет ничего общего с обыкновенной успешностью. Давно уже найденный перевод "смелый", "отважный" ближе подходит к душевному содержанию слова. Но тоже не совсем. Потому что в нем есть что-то от того, чтобы выйти на подвиги, требующие на что-то отважиться и что-то и когда-то сделать в неизвестной дали. Во всяком случае, по ту сторону горизонта, - там, где русская душа только и чувствует себя дома. Вспоминается о рыцарском настроении "avontiure". Но в удали совсем нет рыцарски-сословного, рыцарски-условного элемента. Она намного более общечеловеческая и указывает на слепую волю проникновения в пространство - активный, бодрый ответ на его бесконечность.
В тоске - слове, представленном во всех славянских языках, - с точки зрения обыкновенной можно обнаружить "печаль", "горе". Но в полном объеме тоска проявляется, будучи противопоставлена бесконечному русскому пространству. Это пассивный или, как сказано, минорный рефлекс на пространство, это печаль, перенесенная в многомерную неопределенность, в большое, человеческое. Об этих больших, надличностных аспектах нам часто придется размышлять, если мы хотим глубже понять русский дух. Тоска проявляется не столько в отдельной песне, не столько в отдельном стихотворении, сколько во всем укладе русской народной поэзии, русской народной песни. Мы обнаруживаем ее в качестве существенного элемента и в народной музыке. Как бы вбирая в себя широту пространства, она соединяется с тем загадочным русским свойством, которое мы назовем в дальнейшем "безграничной способностью к страданию"."
"Много еще нитей ведут от особенностей русского пространства к характерным явлениям русской жизни. Для европейцев особенно важен тот факт, что это пространство непосредственно одарило весь мир. Кажется, оно гениально соответствует новой проективной или синтетической геометрии, которая выходит за рамки эвклидовых представлений. Не случайно важнейшие разделы такой геометрии разработаны русскими, либо сформулированы в России. Так, например, случилось, когда французский математик Понселе долго прожил в России. Ведь в пространстве есть что-то вдохновляющее в космическом смысле.
Но давайте в простирающемся воздушном ландшафте обратим больше внимания на саму по себе землю. Как это может быть, спрашиваем мы, что люди, узнавшие Россию, испытывают вдали особого рода тоску по этой земле? Поначалу кажется, что есть земли, гораздо более заслуживающие взгляда. Не только потому, что, как мы заметили, местность повторяет одни и те же мотивы на дальних и сверхдальних дорогах. И в том, что касается цветовых ощущений, на первый взгляд ничего ослепительного. Правда, цветок представляется, как и в других славянских языках, носителем цвета. Но то, что заметно из красок на цветах, не слишком подчеркнуто, скорее кажется приглушенным. Это всегда так в средних русских областях, на крайнем севере и далеко на юге качество иное. Но чем ближе срастаешься с русским ландшафтом, тем лучше заметен другой феномен: беглый, едва заметный свет даже над самыми темными и бесцветными участками земли. В результате темное получает теплый оттенок. А там, где свет падает на что-то красочное, он, кажется, не сильно прилипает к предметам. Он немного отрывается от них и получает легкий оттенок, который можно назвать "световым эхом". Вся страна заполнена своеобразным сиянием и окружена светом. Только не следует представлять себе это сияние слишком уж предметным.
Речь идет о тонких и тончайших нюансах, о часто упоминавшемся нами творческом "едва-едва" или, как сказал бы русский, "чуть-чуть". И, предваряя разговор о языке, в этом слове "чуть" заключена "очевидная тайна". Чу! - так в русском языке говорят, призывая послушать. Но подразумевается не только призыв к слуху, а к тонкому, ощупывающему восприятию, в котором сливаются самые различные ощущения. И мы впервые можем высказать здесь абсурдно звучащую фразу: Россию и русского человека следует научиться видеть ушами. Как ни абсурдно это звучит, но речь идет о чем-то весьма конкретном.
Очевидно, в прежние времена отраженный землей свет воспринимался русским человеком совершенно предметно. Вместе с другими братскими славянскими народами он жил с ним, как с одной из земных стихий, даже с той самой земной стихией. Но если, к примеру, в польском языке слова, означающие землю, планету, и свет, свечение, слегка дифференцировались между "swiatlo" и "swiat", то в русском и свечение, и планета соединились в едином слове свет. Мы еще поговорим о том, что для "планеты" в русском есть еще одно слово. Здесь же нас интересует данное своеобразное созвучие. Оно проявляется совершенно очевидно, если русский хочет сказать, что что-то происходит на планете. Тогда он использует выражение на свете, что буквально означает "на планете", а также "на свечении". Таким образом, предложение "ich lebe in der Welt" он передал бы словами "живу на свете" - "я живу на планете - свечении". Перед нами здесь вновь один из феноменов, заставляющих удивиться и вспомнить о том, какими же конкретными были указания исследователя душ Рудольфа Штейнера. По определенному поводу он говорил, что духовность разных народов крепко связана с той или иной из земных стихий: итальянская с воздухом, французская с водой, английская с землей, немецкая с теплом. О русской духовности он говорил: она внутренне связана с отраженным от земли светом… Наверное, стоит заметить на полях, что в русском языке изначальные словесные образы исчезли так же, как и в других европейских языках. Если русский подразумевает планету и говорит "на свете", то он совершенно не думает больше о том, что свет означает еще и свечение. Языковой прагматизм, о котором подробнее шла речь в главе об Англии, никак не ограничен этой страной. Мы повсеместно живем среди языковых чудес и бродим вокруг гениальных проявлений языка, даже нисколько этого более не осознавая."
Герберт Хаан рассказывает далее о том, как внезапно на русском пространстве проступает за одну ночь весной зеленая трава:
"Это не мещанская зелень с аптечного склада, какую мы обычно видели повсеместно. Это ликующая зелень с почти бунтарской силой молодости. Поначалу ей не нужны никакие цветы, и то, что мы так сухо называем "травой", становится неслыханным событием.
Об этой траве автор вспомнил на горе Табор в Палестине. И там же вспомнились простые, но захватывающие и сильные слова, которые неисчислимое количество раз напевались русскими: "Там у речки, у моста зеленеет уж трава". Видимо, это негромко интонируется одним голосом в так называемом запеве. Это голос первого, кто заметил, почувствовал и теперь утверждает, что трава, наконец-то, проступила и растет. Но есть в манере запева и что-то от чу! - "послушайте!". И тогда подхватывает хор, и тут-то и сотворяется весеннее чудо. Душа народа вспоминает о прошедшем оцепенении, о бесконечных холодных зимних днях без травы, без зелени, радость ликующих певцов становится почти неистовой, слова повторяются все быстрее, все стремительнее: "Зеленеет - уж трава! - Зеленеет - уж трава!" В голосах что-то от стремительности и темпа русского народного танца. "Зеленая трава" не та, что в нежном меланхолическом стихотворении у немца Юстинуса Кернера, озвученном Робертом Шуманом. Она вызывает что-то уносящее с собой, дионическое. И мы прикасаемся к грани иррационального в этом таинственном русском мире. Ведь многие здравомыслящие наблюдатели могли бы сказать: что такого в зеленой траве, чтобы люди так восторгались и сходили с ума!
Но душа русского народа знает лучше. Она чувствует, что зелень травы на самом-то деле является эхом на силу небесного света. Нога, которой позволено ступать по этой траве где угодно, глаза, без помех отдыхающие на широком просторе, - все это без слов, стихийно вобрало в себя древнее выражение "на свете" - "на свечении"."
Между драконом и архангелом.
"О русском народном пении мы уже говорили несколько раз. В нем, а также и в пении церковном, можно услышать, как самые глубокие, почти сказочные для других стран басы обрамляются сопрано, которое пропадает в разреженной, едва ли не совсем уж безвоздушной высоте. Потом объективно заложенные в голосах погружения и взлеты даже происходят одновременно.
Обычно же они следуют друг за другом, причем тесно прижимаясь друг к другу, почти без перехода. Они могут сменять друг друга в одной и той же песне, так же, как минор и мажор. Для такой внезапной смены темпа и настроения характерна народная песня волжских бурлаков "Эй, ухнем!", к сожалению, несколько подзабытая сегодня на Западе. Начинаясь издалека, звуки песни дают возможность почувствовать, как эти изнуренные люди, большей частью в оборванной одежде, тянут за трос тяжелое грузовое судно. Веревка натирает израненные плечи и спины, но шаг за шагом судно толкается вперед; слышится глубокое дыхание, как бы черпающее силы со дна колодца, и как бы видишь напряженную поступь. Чем ближе становится пение, тем более оно угнетающее. В нем что-то от бесконечного терпения, даже от боли, переносимой с тупой покорностью. Но на несколько мгновений настроение совершенно переменяется. Из чудодейственным образом освободившихся, чудесным образом освежившихся глоток изливается мощное мужское пение:
Lasst uns die Birke aufmachen,
Lasst uns die schongelockte entfallen
Разовьем мы березку,
Разовьем мы кудряву!
Какую березу? Веревка, которую тянули бурлаки, задела за березовый шпенек на судне. И пока люди своим тяжким трудом натирали себе плечи до крови, кому-то и как-то пришло в голову, что и этот березовый шпенек загнан в угол, как бедный странник: выпиленный из такой прекрасной березы, шелестевшей в свое время своими кучерявыми ветвями на весеннем ветерке. И песня вдруг на мгновение переносит шпенек назад, к ее юной матери, кудрявой березе. Бурлаки вдыхают запах свежей листвы. Но куда развиться им самим, где та большая мать, которая примет их всех? День вчерашний и день завтрашний одинаково серы. И после краткого березового сна они вновь тонут в прежней нищете. Что остается, кроме "эй, ухнем!", продолжающегося днями, годами и всю жизнь?
Противоречия и противоречия, непрестанно повторяющаяся смена темпа и акцентов пронизывают всю русскую жизнь. Да, можно подумать, что русская душа лишь тогда способна играть на всех струнах, если у нее есть возможность переходить от одной крайней точки к другой. Сегодня, в минуту, показавшейся кому-то стоящей, готовы безмерно проматывать, а назавтра затягивают пояс, и начинаются недели экономии и поста. Но эти недели не переносятся с кислым видом, а проживаются с бодрым спокойствием. Тут надолго предаются, если позволяет жизнь, состоянию полусонному и полуобморочному, в котором видимость деятельности обнаруживается, пожалуй, лишь в курении. А там принимаются за работу с лихорадочным усердием, которое переходит все обычные границы дня и ночи и принимает характер подвига Геракла. Душа, пока ее все еще несут в основном чувства, может быть мягкой, все понимающей и все прощающей - чтобы тут же сразу, совсем неожиданно, оказаться колючей и замкнутой. Иногда она может даже доходить до некоторой жестокости.
В самом общем виде можно сказать, что здесь готовы с житейско-философским равнодушием, даже с легким, необязывающим восхищением воспринять какое-либо преимущество, какую-либо ценность, которой нет у самих. Одна из лучших черт русского характера в том, что зависть ему чужда в принципе. В глубине души он чувствует себя предрасположенным к любым богатствам, так что недостаток их в чем-то отдельном он переносит безболезненно. Про себя он чувствует: я тоже смог бы, если бы захотел. И если он однажды действительно захочет, то этот порыв не ограничится умеренными рамками. От необладания каким-либо свойством, из состояния "ноль" он бросается в состояние "гипер", к излишеству. В этой стране даже самые простые души наделены от природы житейской мудростью, но от природы же они не склонны к интеллектуальному, к абстрактному. Однако если кто-то однажды встанет на путь интеллекта, то будь здоров! Он сразу же станет слишком интеллектуалом, чтобы быть прилежным в мыслях.
В невероятно огромной стране с ее бесчисленными возможностями должны решаться задачи такого размаха и столь разносторонние, что с ними в мире сравнится лишь немногое. После исторически обусловленного зимнего сна они вставали все сразу или же по крайней мере вырастали, как кусты. Однако на первых порах большие усилия оказываются сизифовым трудом; поднятый камень вновь скатывается вниз. И вот в самых различных областях жизни появляется своеобразный феномен наивысших достижений. Где-то что-то достигается и представляется так, что затеняет собой все до тех пор известное и становится образцом. Но выясняется, что весьма трудно подтянуть к этой вершине всю жизнь с ее хлопотами, весь труд и созидание во всей их широте. В тысячах мест зияют еще не заткнутые дыры.
Если в самом общем виде рассматривать русскую историю, то обнаружится, что в соответствии с этими эскизными набросками у нее в высшей степени своеобразный ритм, мы бы даже сказали пульс. В течение долгого, долгого времени этот пульс медленный, даже инертный, но и при частоте в 50, а то и в 45 все-таки здоровый. Потом он внезапно подскакивает до 100, 110, 120. И его также переносят с поразительно хорошим самочувствием, проносясь по истории в семимильных сапогах. Тут "развивают березу, кудрявую". Однако тяжкая и грузная поступь "эй, ухнем!" может возвратиться. Угрожающе замедляется пульс снова.
Но и это преходяще, потому что все в брожении, в появлении, в становлении. Мера между ничем и избытком отыскивается мучительно трудно. Однако качание маятника между этими экстремальными значениями живое, а найденная мера никогда не будет иметь ничего общего с умеренностью.
Размышляя об этих вещах, вспоминаешь высказывание юного Шиллера, который назвал человека несчастной промежуточной тварью "между скотиной и ангелом". Услышав такое, хочется сказать: "между скотиной и ангелом" - это, может быть, для средней Европы и для среднего европейца. Для русского человека придется брать глубже и выше. Он витает не между скотиной и ангелом, а между архангелом и драконом. От этого у него большие проблемы, но и большие возможности."