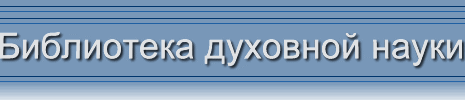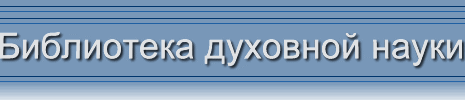(Марина Цветаева через призму духовной науки)
Доклад на международной Цветаевской конференции 2005 г
1. Подход к теме
Это строка из стихотворения «Хвала Времени», которое написано Цветаевой в 1923 году, в первый год эмиграции:
Беженская мостовая!
Гикнуло - и понеслось
Опрометями колес.
Время! Я не поспеваю.
В летописях и в лобзаньях
Пойманное… но песка
Струечкою шелестя…
Время, ты меня обманешь!
Стрелками часов, морщин
Рытвинами – и Америк
Новшествами… - Пуст кувшин! –
Время, ты меня обмеришь!
Время, ты меня предашь!
Блудною женой – обнову
Выронишь… - «Хоть час да наш!»
- Поезда с тобой иного
Следования!… -
Ибо мимо родилась
Времени! Вотще и всуе
Ратуешь! Калиф на час:
Время! Я тебя миную.
Уже в самом названии стихотворения, где «Время» написано с большой буквы, можно уловить вынужденное смирение поэта перед этой властной силой. С каждым четверостишием она неизменно терпит крах в состязании со Временем:
- Время! Я не поспеваю.
- Время, ты меня обманешь!
- Время, ты меня обмеришь!
- Время, ты меня предашь!
И наконец приходит ясное осознание, что всякая схватка тут бессмысленна, «ибо мимо родилась Времени!» Осознание, что у нее со Временем поезда «иного следования», отсюда – спокойный вывод:
Время! Я тебя миную.
Тема эта волнует поэта, раз буквально через несколько дней пишутся следующие строки:
А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем –
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах…
Как можно победить пространство и время?
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Может быть - обманом
Взять? Выписаться из широт?
(«Прокрасться…», 1923)
- задается вопросами Цветаева.
И десятилетие спустя у нее со Временем диалог не кончается:
«Эпоха против меня не лично, а пассивно, я - против нее – активно. Я ее ненавижу, она меня - не видит»
( Из письма к Иваску, 1934)
2. О времени и о себе
Мысли о времени и своем месте в нем Цветаева высказывает очень часто, в прозе, письмах и стихах, нередко приводя неискушенного читателя в полное замешательство. Что же, думает он, Марина Цветаева безнадежно отстала от нашей сверхзвуковой эпохи, раз, по ее словам, «Мне в современности и в будущем места нет», или «Оборот назад – вот закон моей жизни… Мы – есть. Но мы – последние»?
В письме к Вере Буниной ее позиция выражена еще более определенно:
«Поймите меня в моей одинокой позиции… - мир идет вперед и должен идти: Я же не хочу, не нравится, я вправе не быть своим собственным современником…
Не смейтесь, но мы ведь правда – последние могикане. И презрительным коммунистическим «ПЕРЕЖИТКОМ» я горжусь. Я счастлива, что я пережиток, ибо все это переживет и меня (и их!)»
Или в письме к Леониду Пастернаку:
«Всеми своими корнями я принадлежу к прошлому. А только из прошлого рождается будущее».
Попробуем показать, каким образом эти «последние могикане», куда себя относит и Цветаева, могут подчас сильнее воздействовать на будущее, чем, как кажется, быстро меняющийся технический прогресс. На поверку они оказываются как раз той силой, которая словом способна приостановить бездумное самоистребление человека делом его же собственных рук.
«Даже мой собственный вызов времени, - пишет Цветаева, - крик моего времени – моими устами, контр-крик его самому себе». Неприятию времени поэт противопоставляет свой, каждодневно создаваемый им творческий мир – стол, локоть, перо, тетрадь:
«Есть, - пишет она в письме, - (мне и всем подобным мне: ОНИ – ЕСТЬ) только щель: в глубь, из времени, щель, ведущая в сталактитовые пещеры до-истории: в подземное царство Персефоны и Миноса – туда, где Орфей прощался: в А-И-Д…
Ибо в ваш воздух машинный, авиационный, пока что экскурсионный, а завтра – сами знаете, в ваш воздух я тоже не хочу».
Жизни с краю Почему же,
Середкою брезгуя О люди в полете!
Провожаю – Я - «отстала»
Дорогу железную. А вы – отстаете,
Остаетесь.
Века с краю
В запретные зоны Крылом – с ног сбивая
Провожаю Вы несетесь,
Кверх лбом – авионы. А опережаю
Я?
Постараемся показать, что противоречие между «отстаю» и «опережаю» – лишь вопрос терминологии. Творческий мир поэта, из которого «гудят моей высокой тяги лирические провода», оказывается такого мощного накала, что пробивая все «запретные зоны» времени, способен донести свои импульсы в будущее.
Действительно, трудно совместить в одной эпохе «подземное царство Персефоны» и бешеный поток современной цивилизации, из которого постепенно вытравляется главное – никуда не спешащая, а только деятельная в созерцании душа. Как совместить, к примеру, низость сегодняшней повсеместной масскультуры с ее главной ставкой – деньги – и Цветаеву с ее девизом, который, как она говорила, «поможет и в смертный час» –
«NE DAIGNE! (НЕ СНИСХОДИ!)»
- До чего?
- До всего, «что снижает (страха, выгоды, личной боли, житейских соображений – и сбережений)».
«Поэт, утверждает Цветаева, - никогда не жил подножным кормом времени и места». Она безоговорочно отвергает этот выгодный, но, как она говорит, «насильственный брак» со своим временем, потому что
О поэте не подумал
Век – и мне не до него.
Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом
Времени не моего.
Если веку не до предков –
Не до правнуков мне: стад.
Век мой – яд мой, век мой – вред мой,
Век мой – враг мой, век мой – ад.
(Сент. 1934)
3. Поэт - утысячерённый человек
«Знаток, любящий и мастер» – вот кого Цветаева записывает в свой избранный круг. Вот кто сумел бы оценить ее по достоинству, в чем она особенно нуждалась при жизни, т.к. в своем будущем признании не сомневалась никогда:
«Я знаю себе цену: она высока у знатока и любящего, нуль – у других, ибо (высшая гордость) не «держу марки», предоставляю держать – мою – другим».
И в другом письме, к Иваску:
«За меня бы дорого дали, если бы я существом отзывалась, как дорого дали – за Маяковского и, дорого дав, и то не удержали!»
В понятие «общественная жизнь» Цветаева себя никак не вписывала:
«Виновата, - пишет она Тесковой, - (виновных нет) м.б. и я сама: меня кроме природы, т.е. души и души, т.е. природы – ничто не трогает, ни общественность, ни техника, ни-ни…».
Но это не мешало ей замечать те основные тенденции, которые в этой жизни просматриваются, по-своему их оценивать и выносить глобальные определения:
«Современное не есть все мое время. Современное есть показательное для времени, то, по чему его будут судить…
Современник: всегда меньшинство.
Современность есть совокупность лучшего».
Из всего сказанного можно заключить, что хотя Цветаева выбирает для себя путь «жизни с краю, середкою брезгуя», но жизнь сама все время выносит ее на передовые линии величия духа. Рост и самосознание собственной души становятся ее главным стержнем во всех жизненных перипетиях:
«Сейчас все думают о странах и о классах. Нужно думать о человеке и его душе».
«Я расту. - пишет она Бахраху. – Для роста – все пути хороши. Наипростейшие – наилучшие».
«Что я делаю на свете? – Слушаю свою душу».
«- Но кто Вы, чтобы говорить «меня», «мне», «я»? – обращается она к Иваску и сама же отвечает:
- Никто. Одинокий дух. Которому нечем дышать…».
Чтобы говорить об Одиноком духе такой недосягаемой высоты, надо постараться не упускать из виду те земные источники и стихии, которые все же помогали ему дышать. Она называла поэта «утысячеренным человеком» и самое большое, что можно о нем сказать – это дать его первоисточники, т.е. показать «его сопричисленность лику стихий» («Одни сливаются со стихиями, другие с народами, не сливающиеся – пропадают») – замечает она в скобках, но уже не раз убеждались, как важны Цветаевские скобки.
Попробуем их раскрыть хотя бы в отношении стихий. Здесь, конечно, главную роль для нее играла стихия любви, чары, «тайный жар», который она с самого детства ощущала в своей груди «к чужому».
«Я, как поэт… - придя в мир, сразу избрала себе ЛЮБИТЬ ДРУГОГО. Любимой быть – этого я по сей час не умею».
«Я свою автобиографию пишу через других, т.е. как другие себя, могу любить исключительно другого».
У нее был особый дар – долго и горячо дружить в заочности, длить эпистолярные отношения, испытывать неослабевающий интерес к душе адресата, выражать собственную душу, поддерживая живое горение чувства:
«Знаешь, чего я хочу – когда хочу? – признается Цветаева Пастернаку на пятый год их долгих заочных отношений, - Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души – и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда».
Всю весомость, стиль, полет фантазии в своих самых разнообразных, чаще эпистолярных, отношениях с людьми Цветаева, при неминуемом перевесе собственных душевных сил, брала на себя:
«Ничего не боюсь, ни знакомств, ни гостей, я умею по-всякому, со всеми. Написала и увидела: по-своему со всеми. Я от людей не меняюсь, они от меня – чаще – да. Скучны мне только политики».
«Как я кончала любить? Всегда – окончательно убедившись в ничтожестве (и наличности в нем конца и неизбежности конца с ним). Правда, что я иногда долго, насильственно долго убеждалась».
4. Макс Волошин в её жизни
За неизбежной горечью частых разочарований бывали и исключения – такие редкие случаи, где она столько же получала, сколько давала сама. Одним из них был Макс Волошин. Поэт, художник, мистик, антропософ, один из горячих русских учеников Рудольфа Штейнера, принимавших участие в строительстве Дома Слова - «Гетеанума». Кого только не принимал Волошинский Дом Поэта в Коктебеле и чего только не преподнес Макс Марине из своих добрых «медвежьих» рук!
«Макс сам был эта тайна, - с благоговением писала она, - как сам Рудольф Штейнер - своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у Макса Волошина – ни в стихах, ни в друзьях – самотайна, унесенная каждым в землю».
Думается, что из уст Макса Цветаева постигала и азы антропософии, поскольку сама доклады Штейнера, как и вообще философскую литературу читала нехотя.
«Дитя, – пишет она одному из своих адресатов, - я глубоко-необразована, за всю жизнь не прочла ни единой философской строки, но я знаю душу, я каждый день вижу небо и каждую ночь вижу сны».
Но строки из докладов Штейнера она все-таки почитывала, раз еще в 1916 году записала в дневнике:
«Почему Штейнер, если он ясновидец, не видит, как скучны его произведения?».
Позднее, в 1923 году, уже в Чехии, присутствуя на открытом докладе доктора Штейнера в Праге, Цветаева в шутливой записке мужу скажет:
«Если Штейнер не чувствует, что я (Психея!!!) в зале – он не ясновидящий».
И через десять лет снова вспомнит Штейнера. Восстанавливая в памяти события 1923 года и следуя своей формуле «Мне, в итоге, важно кто пишет, а не о чем!», она запишет в дневнике не то, что он говорил, а как:
«Не сказал ничего нового, ничего примечательного, ничего своего, но сказал – голосом, шеей, адамовым яблоком – так, что до сих пор помню, верней – вижу».
Так что, получая в юности антропософию через живые диалоги с Максом Волошиным во время их долгих совместных прогулок на Кара-Даг или плаванья на лодке в бухты залива, Цветаева, видно, впитывала из нее только то, что ей самой было интересно и что совпадало с ее собственными мыслями и наблюдениями. Так, позднее, в 1925 году, любуясь «наполеоновскими», по мнению многих, чертами лица своего новорожденного сына, она снова вспомнит антропософию:
«По теории Штейнера дух – все 9 месяцев, пока ребенок во чреве матери – кует себе тело. Выявленность (индивидуальная, а не расовая!) черт – свидетельство о степени развитости духа. – Хорошая теория, мне нравится».
Самих же антропософов она, как правило, не жаловала:
«Я много штейнереанцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек – и то, что он знает…». И только в отношении Макса добавляла:
«Здесь же было единство».
Постепенно интерес Цветаевой к чужим душам становится для нее ничем иным как объектом наблюдения – как собственной души, так и души другого (ведь истина познается в сравнении):
«Наблюдение становится для меня страстью, делает меня существом наполовину отвлеченным, почти неуязвимым».
«Я стала наблюдателем. Душа, укрывшись в свой последний форт, как зверь, наблюдала другую душу – или ее отсутствие.
Я стала записывать: повадки, жесты, словечки – когда в тетрадку, когда поглубже».
«Мне так важен человек – душа – тайна этой души, что я ногами себя дам топтать, чтобы только понять – справиться».
5. Творческие переклички Рудольфа Штейнера и Марины Цветаевой
Понять тайну души человека… Не этим ли в числе колоссального спектра своих задач занимался и основатель духовной науки – Рудольф Штейнер? Здесь, очевидно, вполне уместно будет привлечь в рассмотрение нашей темы антропософию, со стихией которой, как видно из вышеизложенного, временами соприкасалась и Цветаева. Антропософию возьмем только как ключик для лучшего понимания личности поэта.
К тому же добавим, что и Штейнер, и Цветаева, независимо друг от друга, в разные годы возрастали на Гете. В одном из писем поэт признается: «Я, в жизни, любила Наполеона и Гете, т.е. с ними жизнь прожила». Причем при блестящем знании немецкого языка она Гете читала в подлиннике.
И Штейнер не расставался с Гете в течение всей своей жизни: пять лет работал в Веймаре, в Гетевском архиве, в результате чего им написана большая работа «Миросозерцание Гете». Он постоянно ссылался на Гете в своих многочисленных докладах и позже свой антропософский храм в Дорнахе он назовет «Гетеанум».
Подробно о жизненных и творческих перекличках Цветаевой и Штейнера я уже писала в своей книге «Цветаева и Штейнер. Поэт в свете антропософии» (М. «Присцельс», 1996 г.).
Оказалось, тема еще не исчерпана. На этот раз ограничимся только одним из аспектов духовной науки, а именно: человеческая душа в ее способности к метаморфозам. Какой должна быть внутренняя сущность человека, чтобы она правильно отвечала сегодня требованиям современной культурной эпохи – эпохи души сознательной? И даже этот вопрос мы еще сузим, рассмотрев его лишь в одном плане – социальные взаимоотношения между людьми.
И тогда, быть может, вполне снимется то противоречие, о котором говорилось выше – противоречие между «отстаю» и «опережаю». Окажется, что поэт со своим неизменным «оборотом назад», на горячо любимое и дорогое прошлое, на самом деле будет в авангарде своего времени. А многочисленная масса людей, с громом и шумом несущаяся «крылом – с ног сбивая» в завтрашний день, вдруг окажется безнадежно отстающей.
6. Духовная наука о человеке невидимом
Обратимся к антропософии и напомним, что она рассматривает не столько видимую часть человека (физическое тело), сколько его невидимую часть – то, что открывается сегодня только ясновидящему взору: это эфирное тело, астральное тело и я.
Но благо в том, что через слово, через язык понятий наблюдения, доступные сверхчувственному познанию, можно передавать и остальным людям, тем, кто живет еще только в области чувственного.
«Ибо понимать, - пишет Р.Штейнер, - в этой области можно и то, что сам еще не наблюдаешь. Путь, исходящий из понимания, и есть именно хороший путь, ведущий к зрению». («Очерк тайноведения», стр. 27)
Штейнер в своих работах неоднократно указывает на очень интересную закономерность. В ходе эволюции человечества вместе со сменой различных культурных эпох, цивилизаций и рас медленно и неуклонно меняется и весь душевный склад самого человека. То есть не только материальный мир, но и сами души людей на Земле наделены способностью к развитию, как целыми поколениями, так и индивидуально.
Вот тут-то и имеет смысл говорить об «отставании» одних и «опережении» других. Ведь глядя сегодня на самих себя, трудно даже представить себе, чтобы мы все одновременно стройными рядами подошли к такому процессу развития собственной души, которое отвечало бы понятию – «правильное», или «современное», в лучшем смысле этого слова. Здесь речь может идти лишь об отдельных выдающихся личностях, которых по праву можно назвать путеводными маяками для остального человечества.
Согласно духовной науке, мы сейчас живем в середине Пятой послеатлантической эпохи, называемой Европейской по ее решающему влиянию на весь культурно-исторический процесс. Эта эпоха началась в XIV-XV веках и закончится где-то в середине четвертого тысячелетия. Ее еще называют эпохой души сознательной (или души самосознающей). Чтобы понять, что это такое, снова обратимся к антропософии.
Астральное тело, или то, что называют душой в обычном понимании, тоже неоднородно, как и весь человек. Оно включает в себя три составляющих: душа ощущающая, душа рассудочная (или характера) и самая высокая – душа сознательная. Эти душевные способности у современного человека не разграничены четко, они подвижны и в каждое мгновение взаимно перетекают друг в друга. А «я» в повседневной жизни может находиться как вне души, так и пронизывать каждую из ее составляющих.
Человеческое «я» – это то, чем воспринимаются и переживаются все чувства, пребывающие в душе, и оно должно стать господином всей душевной жизни.
«В сущности, - пишет Штейнер, - вся культурная жизнь и все духовные стремления людей состоят в работе, имеющей целью это господство «я». Каждый человек, живущий в наше время, занят этой работой, хочет ли он того или нет, сознает ли он этот факт или нет».
Природа «я» в нашу эпоху раскрывается не столько в душе ощущающей или рассудочной, а лишь в высшем члене души – в душе сознательной. Там она раскрывается полностью. Преображенная с помощью «я» душа может уже сегодня выступить как первый задаток человека духовного – как «Само-дух». Что это такое?
Это еще более высокая часть сокрытого человека – его дух, его высшее «я», которое может быть выявлено, только когда оно сознательно работает над преображением своего существа. О еще более высоких духовных задатках мы здесь говорить не будем, они раскроются у человека в очень далеком будущем. Но первые ростки «Само-духа» у некоторых людей проступают уже сегодня, и тем полем, на котором развивается дух, является именно человеческая душа.
7. Штейнер о социальных отношениях в нашу эпоху
Антропософия как духовная наука как раз призвана: из того, что в душе идет вглубь, поднимать ввысь. Как пишет Штейнер, «антропософия стремится подготовить душу, поднять ее в познании на более высокую точку зрения».
(«Познание и посвящение», стр.17)
Чем сегодня более развитая душа выделяется среди многих просто средних душ? Напомним, что в этом вопросе мы в нашей теме ограничимся только одним из трех критериев, которые дает духовная наука. Это «социальное понимание человека». О двух других – «свобода мысли» и «духопознание» – мы здесь говорить не будем.
Вопрос сводится к следующему – как должны сегодня складываться взаимоотношения между людьми, чтобы они могли соответствовать уровню современной эпохи – эпохи души сознательной. В идеале духовная наука представляет это так.
Преодолев равнодушие, которое так замыкает сегодня души людей, надо развивать подлинный интерес к другому, добиваться истинного образа другого человека в своей душе. Необходимо ясно видеть различия между людьми и не отшатываться от них, а научиться сотрудничать вопреки различиям и более того – сделать эти различия плодотворными для жизни. Если все это есть – то мы имеем налицо социальное понимание, которое идет в согласии с мировым порядком. Но пока это дается людям лишь как путь, как стремление…
Итак, если связать это с нашей темой, то попробуем показать, как сама личность Марины Цветаевой в ее еще одном личном даровании «ходить по душам и творить судьбы» неуклонно росла и восходила к «Само-духу». Она практически отвечала духовно-научным изысканиям Рудольфа Штейнера о такой совместной жизни людей, которая, проходя через многие испытания, все же ведет к преодолению душевного разлада между человеком и обществом – между внутренней правдой души человека и фальшью внешней жизни. Скажем стихами Цветаевой из ее цикла «Жизни»:
Не возьмешь мою душу живу,
Не дающуюся как пух.
Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо –
Безошибочен певчий слух!
Для начала погрузимся ненадолго в некоторые аспекты антропософии. В предшествующей эпохе (греко-латинской) преимущественно развивалась душа рассудочная или душа характера. Человек, до того пребывающий лишь в душе ощущающей, постепенно приобретал две новые силы – силу рассудка и силу характера. Но древние греки и римляне пользовались ими несколько иначе, чем мы теперь. Эти силы давались им некоторым образом готовыми, в виде природных задатков, которые наряду с другими росли и развивались вместе с человеком.
Тогда и человеческие встречи происходили проще, чем теперь. Люди, встречаясь, непроизвольно испытывали друг к другу взаимный интерес, характер одного сразу действовал спиритуально на характер другого, и знакомство осуществлялось быстро, «mit einem Schlag» («одним махом»), как говорил Штейнер. Такой способ был достаточен для тогдашних времен, не нужно было долго притираться друг к другу и обмениваться мыслями – все решалось одним махом при личной встрече.
Совсем иначе обстоит дело в нашу эпоху. Возникает трудность взаимопонимания. Отношения между людьми становятся все безличностнее, чему способствует книгопечатание, телефон, телевизор, а теперь еще и интернет. Человек все более становится эгоистом, «обособленным индивидуумом, можно сказать, отшельником, странствующим через мир».
Все драматичнее выглядит проблема человеческого одиночества в собственном теле. Теперь требуется значительно больше времени для взаимного узнавания, чтобы по-настоящему стать близкими людьми. Причину этого раскроем с духовнонаучных позиций.
Сейчас, в эпоху души сознательной, утверждает Штейнер, один человек встречает другого уже не случайно, а, как правило, они уже что-то пережили вместе в прежних инкарнациях. Т.е. теперь чаще людей приводит к встречам действие прежней кармы и меньшую роль играет завязывание новых отношений. Поэтому требуется, чтобы люди постепенно, из души ощущающей, давали бы восходить в себе внутреннему чувству и тем реминисценциям, что пришли из прежних инкарнаций.
«Это нахождение правильного отношения друг к другу требует как раз внутреннего развития, внутренней деятельности», - пишет Штейнер.
Именно от такой внутренней работы и формируется душа сознательная в нашу эпоху. Так что трудность взаимопонимания оказывается необходимым условием развития, чтобы люди, проходя через определенные испытания, не проспали бы свою жизнь.
8. Цветаева - в восхождении от души сознательной к «Само-духу»
Обратимся теперь к Цветаевой и посмотрим, как в отношении этой внутренней деятельности обстоит дело у нее. Уже говорилось в начале, что ее всю жизнь интересовала ни общественность, ни тем более политика, а только люди, причем отнюдь не то, что лежит на поверхности. Она всегда влеклась к внутренней сущности, тому, что скрывалось за внешней оболочкой человека:
«Тело другого человека – стена, она мешает видеть его душу. О, как я ненавижу эту стену!» – писала Волошину 19-летняя Марина. И с годами ничего не менялось. Это влечение к человеческой душе, к ее тайне и составляло основу ее многочисленных влюбленностей, очарований и разочарований:
«Ни одной вещи в мире я не видела просто, - запишет в дневнике 30-летняя Цветаева, - мне – как восьми лет, в приготовительном классе при взгляде на восьмиклассниц – в каждой вещи и за каждой вещью мерещилась – тайна, т.е. ее, вещи, истинная суть. В восьмиклассницах тайны не оказалось, т.е. та простая видимость – бант, длинная юбка, усмешка – и оказалась их сутью – сути не оказалось!
Но тогда я, восьмиклассница, перенесла взгляд на поэтов, героев, прочее, там полагая. И опять – врастя в круг поэтов, героев, прочее, опять убедилась, что за стихами, подвигами и прочим – опять ничего, т.е. стихи – все, что они есть и могут, подвиги – все, что они есть и могут…
Так я видела мир восьми лет, так буду видеть восьмидесяти, несмотря на то, что так я его никогда не увидела (т.е. вещь неизменно оказывалась просто – собой). Ибо таков он есть».
Позднее она скажет, что «прошла по душам, как по странам» и сделает неутешительный вывод, что «в мире ограниченное количество душ и неограниченное количество тел». Но сам процесс поиска в человеке его глубины, его внутренней сути превращался для нее в творческий процесс.
Постижение тайны человеческой души делало ее сверхчуткой, наблюдательной и по ее признанию «почти неуязвимой». В конце концов это все отливалось в чеканный Цветаевский стих, в «две любимые вещи в мире – песню и формулу».
«Моя вечная привычка надо всем (человеческим!) задумываться. И глубокое равнодушие ко всему, что вне (грудной клетки!) человека».
Но большинство людей нашего времени как раз судят о другом человеке не по тому, что в его грудной клетке, а чаще всего из симпатии и антипатии. Вот что говорит об этом Штейнер:
«Как судим мы сегодня о человеке, которого встречаем? Он нам симпатичен, либо антипатичен. Посмотрите, как повсюду в мире в большинстве случаев это – единственное суждение… Предвзятые мнения! Представляют себе: этот человек должен быть, в сущности, таким-то и таким-то; обнаруживая, что человек в том или ином другой, ему выносят приговор…
Симпатии и антипатии есть величайшие враги подлинного социального интереса».
Цветаева отнюдь не миновала сии чаши. Она тоже, как и все, влеклась к людям из чистой симпатии, очаровывалась, творила себе кумиров. При этом еще приписывала каждому несуществующие достоинства, наделяя человека собственной безмерностью:
«В одном я – настоящая женщина: я всех и каждого сужу по себе, каждому влагаю в уста – свои речи, в грудь – свои чувства.
Поэтому – все у меня в первую минуту: добры, великодушны, доверчивы, щедры, бессонны, безумны. Поэтому – сразу целую руку».
Она умела радоваться каждому новому отношению с человеком, независимо от того, насколько ей приходилось склониться к его уровню:
«Я охотно заселяю чужие тела своей душой. (Вроде колоний)».
«Иногда думаю о себе, что я – вода. Налейте в море – будет морем, налейте в стакан – будет стаканом. Дело вместимости сосуда – и: жажды!».
Но одним очень существенным отличием Цветаевой от многих и многих, так сказать, очарованных являлось то, что она эти чары над собой всегда ясно осознавала. Считала их, пусть и очень сильными, но всего лишь «пристрастьями», могла, как говорила, «загораться в людях и от шестого сорта» (и этот шестой сорт от первого четко отличала).
«Я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности – людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умела. Если что и люблю здесь – то отражения (если принимать их за сущность, получится: искажения)».
За всеми Цветаевскими пристрастьями стояло главное – высшее осознание себя как уникального явления, как Творца, аппелирующего к сферам Духа:
«У меня только одно серьезное отношение: к своей душе. И этого мне люди не прощают, не видя, что это «к своей душе» опять-таки – к их душам! (Ибо что моя душа – без любви?)
«Моя душа – не я. Я – это я + душа. Мое осознание ее + она», - пишет она почти антропософское умозаключение.
Здесь все дело в этом слове – «осознание», себя и другого. Отсюда неослабевающий интерес к человеку, углубление шаг за шагом в тайну его и своей души, включение в это осознание механизма искреннего сочувствия к другому, до тех пор пока в нем не обнаруживалось явной пустоты:
«Я не тот (я другой!) – тогда радуюсь. Но чаще «не тот» – просто НИКТО. Тогда огорчаюсь и отступаюсь».
«Когда подходишь к явлению, - вызревает у Цветаевой в четкую формулировку, после того как уже перегорели все симпатии-антипатии, - надо знать, чего от него можно ожидать. И ожидать от него – именно его самого, того, что составляет его сущность».
9. Соблюдайте границу границу верхнего и нижнего миров!
Антропософия как никакая политика раскрывает глубину социального вопроса и указывает путь, как правильно выстроить отношения человека с человеком.
“Ведь дело как раз в том, - говорит Штейнер, - чтобы каждого принимать таким, каков он есть, и исходя из того, каков он, стараться делать наилучшее”.
Как же это “наилучшее” делала с людьми Цветаева? Ведь как душа самосознающая она неизбежно проявляла свое сильное высшее ”я” в мире средних и слабых душ - ощущающих или рассудочных. Она хорошо заметила, что являлась “для людей – только повод к ним самим”, при условии что это “к ним самим” есть. Послушаем еще ее самые сокровенные признания:
“Смирение - это последнее любопытство: до чего дойдет (мужчина, гость, Бог…) и на чем наконец остановится – и есть ли конец – и остановится ли?”
Сетуя на то, что ей почти всегда приходится иметь дело с людьми слабее себя, она пишет Ю.П.Иваску:
“Все настоящие знали себе цену – с Пушкина начиная… Я первая после Пушкина, кто так радовался своей силе, так – открыто, так – бескорыстно, так – непереубедимо!…
Нельзя не знать своей силы. Можно только не знать ее пределов…
Вся наша жизнь – сплошное снисхождение (человека в нас, а может быть – божества) к малым сим. Но как иногда от сих малых – тошнит и как хочется – великих тех! Не глотать. Встать во весь рост – не боясь испугать: убить”.
“Встать во весь рост” Цветаевой в жизни почти не удавалось (только в отношениях с равными – Рильке и Пастернаком). Это удавалось ей сделать лишь “вне-жизни” – в душевных глубинах, в творчестве, во сне – словом, в сверхчувственных мирах. Вспомним ее “вне-жизни мне все было дано”.
В связи с этим обратимся к Штейнеру, который приоткрывает еще одну важную тайну – в обычной жизни необходимо соблюдать границу двух миров:
“Для сознательной жизни в верхних мирах душе необходимо иметь одно влечение, которое не может быть раскрыто в нижних мирах. Это – влечение отдаться тому, что переживаешь. Нужно уметь совершенно окунуться в переживание, слиться с ним воедино. Довести это до такой степени, чтобы узреть себя вне своего собственного существа и почувствовать себя внутри другого существа…”.
Прервем ненадолго Штейнера и сопоставим с Цветаевскими размышлениями:
“Для меня одиночество – временами – единственная возможность познать другого, прямая необходимость. Помните, что я Вам говорила: окунать внутрь и так глядеть… Моя задача доказать Вам нищету мира вещественного: наглядных доказательств”.
И еще потрясающий духовный опыт Цветаевой, как можно ”окунуться в переживание”: “Моя любовь, - пишет она, - всегда была лишь отрешением от объекта – отрешением в двух смыслах: отделиться и очистить (удалить пятна). Я начинаю с отделения и очищения его – от всего и вся, а затем, когда он свободен и чист ( лишен пятен), я оставляю его – предоставляя его собственной чистоте и одиночеству”.
Но продолжим Штейнера:
“Это превращение, это вчувствование в других существ и есть жизнь в сверхчувственных мирах. Через такое превращение человек замечает свою родственность с одним существом и отдаленность с другим. Так выступают симпатии и антипатии.
Если в чувственном мире симпатии и антипатии различаются только по их силе, то в духовном – еще и по многоцветию ( как краски). Причем антипатия там не отвращает, а только отличается по цвету… (Вспомним тут же Цветаевское: “для меня всякий хорош, а плохой – больной”).
Способность к превращению, - пишет далее Штейнер, - должна покоиться в душевных глубинах в физическом мире. Эта сила дает душе только ее основное настроение, а раскрывается полностью только в эфирном теле…
Ясновидческое сознание должно постоянно соблюдать границу между обоими мирами. Нельзя деятельно проявляться со способностями, соответствующими сверхчувственному миру”. Примерно так духовная наука предостерегает от негативных люциферических влияний, когда в обычной жизни не соблюдается граница двух миров.
“Это влияние, - говорит далее Штейнер, - есть везде, где в симпатиях-антипатиях чувственного мира действует что-нибудь иное, кроме любви, основанной на сочувствовании жизни другого существа”. (И снова напомним Цветаевское: “Единственная любовь, от которой потом не тошно, это любовь вне пола, любовь к другому во имя его. – Остальное – обман, туман”.)
В связи с этим хочется привести некоторые самые потаенные признания Цветаевой Пастернаку, из которых видно, как нелегко было большому поэту соблюдать эту границу двух миров, как хотелось иногда “встать во весь рост”.
Она с полным доверием признается, что иногда испытывает людей, обычных, далеких от каких бы то ни было сверхчувственных опытов, безмерностью своей души. От несоблюдеия границы двух миров, о которой предупреждал Штейнер, и возникают негативные последствия таких экспериментов.
“Теперь признаюсь Вам, - пишет Цветаева Пастернаку, - в одной своей дурной страсти: искушать людей (испытывать) непомерностью своей правдивости… Испытание правдой. Кто выдержит?
Я не умеряю своей души (только – жизнь). А так как душа – это никогда: я, всегда: ты (верней – то) – то у другого или руки опускаются (трусливое, хотя тоже правдивое: “да ведь я не такой!”) или земля ходит под ногами, а на земле – я, и ноги по мне. Принимаю и это”.
Прервем письмо и попробуем догадаться – что такое это “то”? Очевидно, это стремление к высшему, которое есть отнюдь не у каждого. Вспомним ее:
«Бог (магнит) некоторых забыл снабдить сталью».
И еще одно ее признание:
«У меня особый дар идти с собой (мыслями, стихами, даже любовью) как раз не-к-тем».
Но продолжим ее письмо Пастернаку, единственному, равному по духу:
«Я знаю, что в жизни надо лгать (скрывать, кроить, кривить). Что без кройки платья не выйдет. Что только устрашишь другого потоком ткани…
Но мои встречи – не в жизни, вне жизни, и горький опыт с первого дня сознания – в них я одна ( как в детстве: «играю одна»).
Потому что ни другому, ни жизни резать не даю. Моя вина – ошибка – грех, что средства-то я беру из жизни. Так ведя встречу, нужно просто молчать: ВСЕ внутри. Ведь человек не может вынести (Я бы могла, но я единственная из всех кого встретила – кто бы могла! Я всему большому о себе верю. Только ему. Нет – слишком большого!)».
Здесь, в письме, Цветаева в полном бескорыстии и чистоте сердца говорит о себе, как о другом. Она легко смотрит на себя со стороны, отделяя Я-сознание и собственную душу. Об этом есть ее потрясающее признание в дневнике:
“Еще понимаю: я не собственник своей души, такой же в ней гость, как другие (только ценитель – знаток – не громлю, не граблю). А хозяин моему дому – Бог”.
И наконец закончим ее письмо Пастернаку, где уже пожинает плоды этого своего безмерного правдолюбия:
“А потом меня обвиняют в жестокости. Это не жестокость. Свет перестал брезжиться (пробиваться) через тебя, через эту стену – тебя, ты темный, плотный, свет ушел – и я ушла”.
10. Цветаевское человековедение
В заключение нашей темы еще раз подчеркнем, что такой гениальный поэт, как Цветаева, никак не могла быть последовательным учеником тайноведения. Ее сильное “я” само было господином ее души и тела.
“Душа у меня – царь, тело – раб” – говорила она.
Есть еще одно великолепное ее высказывание о поэте, который по существу сам является духовидцем:
“Поэты не посвященные, а освещенные (молнией прозрения). Если поэт освещен, то не чем иным, как внутренним видением”.
Штейнер, который когда-то в Праге при личной встрече сказал Цветаевой свое знаменательное “Auf Wiedersehen!» и о котором она позже скажет, что он «уже совсем не мертвый, ничем, никогда», как основатель духовной науки желал наделить своих учеников этим самым «внутренним видением». Он всегда стремился к правильному взгляду людей на антропософию не как на еще одну абстрактную догму, а как на живое созидательное дело, необходимое для жизни.
«До сих пор, - говорил он, - выступали абстрактные идеалы, самые разные абстрактные идеалы осчастливливания человечества, народов, те или иные социализмы. Осуществись на самом деле в мире эти выступающие здесь или там социальные идеи, и тогда увидели бы лишь только то, как нельзя делать…»
Заметим, что это было сказано еще в 1916 году, за год до Социалистической Революции в России!
Штейнер предсказывал, что начнет распространяться особый вид человековедения, пробуждения интереса к каждому человеку, чтобы принимать его таким, как он есть.
“Тогда появятся люди, - пишет Штейнер, - имеющие определенный дар просвещать своих современников в том, что людям присущи разные темпераменты, что людям свойственны разные предрасположенности характера…
Они будут просвещать других людей в том, чему уже всеьма необходимо учиться; они будут учить… Будут заниматься практической психологией, практическим учением о душе, но и практическим учением о жизни”.
Он предполагал, что такие люди будут, как правило, появляться в кругах, занимающихся духоведением. Однако, осмелимся отнести к таким людям, опережающим свое время, и великого русского поэта XX века Марину Цветаеву, которая помимо гениальной поэзии оставила нам и свой собственный опыт глубочайшего человековедения. Опыт, переданный четким и доступным для всех языком, нередко переходящим в краткую формулу.
Освещенная внутренним видением, она с самых ранних лет ощутила себя неким чудом, сошедшим из высших миров, некоей частью Абсолюта. Это ощущение и явилось ее победой «над временем и тяготеньем». Не привязываясь только к данному часу времени и места, «ибо мимо родилась времени», она родилась на все времена!
Дом-музей Марины Цветаевой, Москва 15 сентября 2005 г.