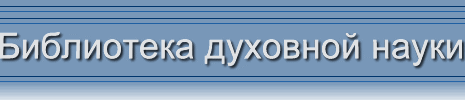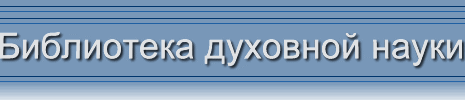| |
Содержание
Свидетельство Серебряного века
Вступление
Первая встреча с Рудольфом Штейнером
Рудольф Штейнер в Кёльне
Пьер д'Альгейм
Мюнхенское лето 1912 года
У доктора Штейнера
Драмы-мистерии в Мюнхене
Курсы лекций Рудольфа Штейнера
Берлин в 1912 - 13 годах
Разговоры о России
Помещение "ветви" Общества
Лекционные поездки
В России
Поездки на курсы лекций Рудольфа Штейнера
Снова Германия (Мюнхен, 1913 год)
В Норвегии
Берлин в 1913-14 годах
В Дорнахе
Строители Здания
Доктор Штейнер за резьбой по дереву
Прочие строители
Модель
Рабочие секции при Здании. Препятствие
В стекольном доме
Пфорцгейм и Норклпинг
Военные годы в Дорнахе
Год 1915-й
Эвритмия и сцены из "Фауста"
Посещение мастерской мисс Марион
Визиты в "Дом Ханси"
Сочинение о Гёте Бориса Бугаева
(Андрея Белого)
Продолжение занятий эвритмией и строительства Здания
Рождественские спектакли
Работа с Марией Штейнер
Отъезд Поццо и Бугаева
Сокращение резных работ
Осмысление современности
Работа над "светотенью"
Мотивы цоколей
Постройки вокруг Гётеанума
"Группа"
Лекци и по искусству
Новогодний канун 1922 года
Последние месяцы и дни земной жизни
Рудольфа Штейнера
Примечания
|
Вступление
Попытка воссоздать образ Рудольфа Штейнера на основе личных воспоминаний - дело рискованное. Кто на это решается, тот должен стараться, чтобы личность Рудольфа Штейнера не была ограничена теми рамками, куда ее хочет втиснуть наше современное сознание.
Тем не менее все актуальнее встает проблема основоположника того начинания, которое постепенно являет себя общественности в своей неповторимости и универсальности. Знакомству с этим феноменом самых широких кругов культурного мира способствует энергично начатое издание полного (включающего в себя свыше 300 томов) собрания сочинений, а также ряд публикаций записных книжек Рудольфа Штейнера.
Взяв в руки любую из книг Рудольфа Штейнера, ощущаешь самым непосредственным образом: в каждом слове присутствует он сам, всеми фибрами своего человеческого существа, - хотя личностный элементе тексте начисто отсутствует.
Вряд ли сохранились письменные свидетельства первых лет его деятельности в качестве духовного исследователя. Лишь незадолго до смерти Рудольф Штейнер описал в своей автобиографии "Мой жизненный путь" свое обращение к ней и дискуссии как со своими современниками, так и с достижениями XIX столетия. В это время его работы о сочинениях Гёте по естествознанию и первые книги по теории познания закладывали фундамент для новых духовных исследований.
Мы обязаны Людвигу Клеебергу ценнейшими данными, касающимися тогдашней деятельности Рудольфа Штейнера в Теософском обществе: Л. Клееберг присутствовал при ней, будучи молодым студентом. Живой образ Рудольфа Штейнера доносят до нас воспоминания священника Фридриха Ритгельмайера. Речь в них идет о последних годах деятельности Рудольфа Штейнера, - преимущественно в связи с "Христианской общиной". Прекрасная
книга Маргариты Волошиной "Зеленая змея" охватывает значительный промежуток времени; однако в ней есть существенные пробелы, чему причина - частые отъезды М. Волошиной из Дорнаха. - Из множества лиц, которые в своих воспоминаниях осветили с самых разных сторон образ Рудольфа Штейнера, мы упоминаем лишь этих троих. Однако до сих пор не существует систематического описания его деятельности в дорнаховские годы, основанного на личных впечатлениях: это непосильная задача для одного автора. Тем не менее мы обязаны предпринять для этого все возможные усилия.
Каким был Рудольф Штейнер в повседневной жизни? А каким во время лекций? Как он общался с людьми? Эти вопросы ставит новое поколение на подступах к делу Рудольфа Штейнера. Все реже встречаются те люди, которые могут ответить на них на основании личного опыта. Мне довелось находиться с ним рядом практически без перерыва с весны 1912 года вплоть до дня его смерти, причем с 1914 года - в Дорнахе. Только преодолевая себя, я уступила требованию описать то, что пережила в этот отрезок времени. Это лучше удалось бы тем, кто был близок Рудольфу Штейнеру. Надо было передать, по возможности объективно, сами по себе незначительные происшествия, добавляющие тем не менее еще один штрих к образу Рудольфа Штейнера. Бесконечно многое исчезло из памяти. Так, не всегда его высказывания переданы дословно, хотя я полностью ручаюсь за их смысл и способ его выражения. Описывая ряд ситуаций, я рассказываю в своих воспоминаниях о дорнаховской жизни и строительстве дорнаховского Здания.
Наиболее обстоятельно я останавливаюсь на деятельности Рудольфа Штейнера в области искусства. Оценка его новаторства в этой сфере - удел будущего. Его самобытность сказывается не только в новых руководящих импульсах, расточаемых им повсюду, но и в проявлениях его в качестве художника-творца.
Антропософская педагогика обязана лично ему своим расширением до масштаба международного движения; его личному участию в образовании и развитии Свободной Вальдорфской школы в Штутгарте, его лекционным курсам по искусству педагогики. Его интенсивная работа с врачами привела к возникновению клиник и фармацевтических предприятий. Также разработанный им в последние годы жизни новый метод ведения сельского хозяйства доказал на практике свою продуктивность. - Благодаря неустанным трудам Марии Штейнер на основе его методологических указаний возникли и развились два новых вида искусства: это художественная речь вместе с драматическим искусством, а также эвритмия.
Кое-что в этих воспоминаниях (духовно связанных с восточной Европой) может выглядеть несколько необычно в глазах поколения, выросшего в совершенно других условиях. Ради понятности здесь следует сказать несколько слов о тех обстоятельствах, которые помогли Борису Бугаеву и мне найти дорогу к Рудольфу Штейнеру.
Литературный псевдоним Бугаева "Андрей Белый" известен немецким читателям: два его романа - "Серебряный голубь" и Петербург" - вышли в свет в немецком переводе еще до первой мировой войны. Однако эти романы не дают полного представления о его многогранной личности.
Будучи сыном известного математика, декана Московского университета, он еще подростком ощутил свое резкое противостояние позитивистской профессорской среде. Дом его отца посещали тогдашние знаменитости, и среди прочих - Лев Толстой и Владимир Соловьев. Но только в доме брата Соловьева Михаила он встретил понимание тем своим ярким образным переживаниям (они были связаны с музыкальными впечатлениями и огненными религиозно-апокалипсическими видениями), которые отразились в его первых литературных трудах. Михаил Соловьев придумал для него псевдоним "Андрей Белый" ради защиты от
нападок со стороны университетских кругов; но эти нападки продолжались и сопровождались полемикой. Стремление воплотить в жизнь свой душевный опыт (опирающийся на пророчества Владимира Соловьева) привело группу молодых поэтов к тяжелейшим конфликтам, которые оказались разрушительными для их дальнейшей судьбы. Помощь братьев Соловьевых с их смертью прекратилась.
Борясь за символизм как за некий новый путь, выводящий из кантианского дуализма, Белый опирался на свое разностороннее, в частности, естественнонаучное образование. Началась непримиримая полемика с другими литературными направлениями, которые ориентировались на французский символизм и начертали на своем знамени слово "декаданс". Чувствуя, что собственных сил для разрешения поставленных проблем не хватает, Белый в одной из своих статей воззвал к некоему розенкрейцерскому пути ученичества. Как ответ на этот призыв пришло знакомство с фрейлейн фон Минцловой. Эти воспоминания начинаются с ближайших последствий этого знакомства.
За этой первой встречей с антропософией для Белого последовали пять лет пламенной преданности ей, чему он обязан своими самыми значительными духовными переживаниями. Однако потрясения, сопровождавшие его дальнейший путь, не позволили ему включить антропософию в спокойное течение жизни. Уже в Дорнахе начал проявляться хаотический элемент его натуры. После пребывания Белого в России во время войны Рудольф Штейнер счел для себя невозможным хлопотать о въезде Белого в Швейцарию, как прежде намеревался. В Штутгарте между ними произошел долгий прощальный разговор, о котором Белый сказал, что он дал ему силы вынести будущую жизнь.
В узком дружеском кругу давно знали о подверженности Белого эмоциональным вспышкам; позднее литературный мир, схватившись за них, создал легенду, что Белый будто бы порвал с Рудольфом Штейнером. Серьезным поводом для этого стал, конечно,
последний роман Белого. В образе доктора Доннера, темного оккультиста, занимающегося тайной политикой, Федор Степун увидел портрет Рудольфа Штейнера. Тем, кто меньше знал Белого, также было непонятно, как он, будучи писателем, мог создать в состоянии аффекта карикатуру на лицо, до конца жизни им почитаемое. Подобные призрачные образы (наделенные властью) вели в нем свое собственное стихийное существование, хотя позднее он признал их обманчивую природу. Об этом свидетельствуют его последние опубликованные в России автобиографические сочинения, в которых он незадолго до смерти стремится разъяснить потомкам, что встреча с Рудольфом Штейнером была самым значительным и ценным в его жизни. Тогдашний режим вынудил его выразить это в такой форме, которая понятна только тем, кто его знал. - В своих воспоминаниях я иногда подробно останавливаюсь на этих проблемах.
Мое детство протекало вначале на севере России, где быстрые реки окаймляются сосновыми лесами, а затем - среди приветливого среднерусского ландшафта, В одиночестве на природе в ребенке зрела убежденность в том, что существование человеческой души начинается не с рождения и не может закончиться со смертью: душа осуществляет свою земную судьбу, проходя через многочисленные жизни. Но где найти людей, которые могут ответить из потустороннего мира на жгучие жизненные вопросы? Новую уверенность в разрешимости этих проблем дала мне, пятнадцатилетней девочке, встреча с искусством прошлого в парижском Лувре. Боги совместно с людьми работали там над камнем. О том же свидетельствовали и средневековые соборы. Можно ли заново вызвать из глубин человеческой природы то, что некогда существовало на Земле? Как найти путь к этому утраченному достоинству искусства?
Только спустя семь лет, когда мне попались в руки книги Рудольфа Штейнера, во мне ожила надежда на то, что и в наше время есть верный путь к области духа. Встреча с Рудольфом Штейнером это полностью подтвердила.
Первая встреча с Рудольфом Штейнером
Впервые я встретила Рудольфа Штейнера в Кёльне 6 мая 1912 года. Некий насущный вопрос, на который мог ответить он один, привел нас к внезапному решению посетить его. Тогда мы с Борисом Бугаевым находились в Брюсселе, где я заканчивала учебу у моего старого учителя - известного гравера Августа Данзе. Через одного из друзей Бугаева мы узнали, что доктор Штейнер на днях будет читать лекции в Кёльне.
Сцены встреч с Рудольфом Штейнером можно передать только при условии, что будет представлена вся ситуация, в которой это происходило. К тому же в описание автору надо включить себя самого. Но я не решилась бы обнародовать эти переживания на грани фантастического, если бы Бугаев уже не опубликовал свою версию этого в журнале "Беседы" (Берлин, 1923 год).
Ради ясносги я вернусь назад на несколько лет. В то время в Москве появилась хорошо там известная личность - фрейлейн фон Минцлова, которая в кругу близких друзей выдавала себя за посланницу розенкрейцерского направления. Маргарита Волошина в своей автобиографии "Зеленая змея" упоминает как ее, так и некоторых членов образовавшегося вокруг нее кружка. Большинство самых молодых его членов мне были знакомы, но фрейлейн фон Минцлову я никогда не встречала.
Это была выдающаяся личность: высокообразованная, пламенно заботящаяся о будущем Европы, - прежде всего, полная тревоги в связи с опасностями, грозящими России. Одаренная мощным ясновидением, - правда, хаотическим, без умения всегда отличить предмет созерцания от внешней действительности, - она напоминала трагический образ Е. П. Блаватской. Своей миссией она считала основание эзотерического центра, из которого можно было бы противостоять надвигающимся бедам. Ее влияние усиливалось благодаря большим оккультным познаниям, соответствующим текстам и медитациям. Лишь позже выяснилось, что эти тексты были взяты из учебных материалов Рудольфа Штейнера, о котором она однако говорила, что он находится на ложном пути. Бугаев был избран ею для непосредственных контактов с тем кругом, который она представляла. Для этого он должен был совершить путешествие в Италию. Но Бугаев решил отложить эту поездку на будущее, - по причинам, касающимся только его личной судьбы. Хотя эти причины встретили понимание, все же его решение привело к тому, что фрейлейн фон Минцлова должна была, как она говорила, навсегда "исчезнуть". (Об этом упоминается в автобиографии Николая Бердяева.) Фактически с того времени о ней ничего больше не было слышно. - Перед тем, как исчезнуть, она передала Бугаеву свое кольцо и несколько евангельских изречений - в качестве "опознавательных знаков" на случай возможной встречи в 1912 году. Бугаев не исключал подобной встречи, специально ее не ожидая. Нечто подобное и произошло, - в особенной, странной форме. Об этом здесь будет лишь упомянуто. Хотя я держалась в отдалении от описанных событий и даже отнеслась к ним с недоверием, я оказалась причастной к ним, - прежде всего из-за того сна, который я увидела на Пасху в Брюсселе.
Я страшно простудилась, у меня был жар. Ночью мне приснилась группа людей, торжественно вступающих в какой-то зал. Особое впечатление производили две личности. Кажется, при этом произносилось имя Рудольфа Штейнера, словно он также присутствовал там. Однако это было не так. В моей памяти отчетливо запечатлелась его фотография, которую я увидела еще в 1909 году, - поэтому я могла заметить это несоответствие. Свой сон я детально пересказала Бугаеву.
Через неделю, поправившись, я поехала на трамвае к моему старому учителю: его домик находился далеко на окраине Брюсселя. Какой-то пожилой, суровый, почти пасторского вида господин занял место напротив меня и в течение по меньшей мере четверти часа, пока длилась поездка, не отрываясь смотрел мне в глаза. Все мои силы сосредоточились на одной мысли: я - это я, я есмь. Я не могла отвести от него взгляда, не могла хоть раз поглубже вздохнуть. Наконец мы остались одни. Он низко склонился надо мной, затем, отступая назад, удалился.
Неделю спустя после этого необычного происшествия я ехала на том же самом трамвае, на этот раз с Бугаевым. Вскоре напротив нас сел пожилой господин исключительно благородной и привлекательной наружности; его любезность действовала на нас притягательно и обволакивающе. Вряд ли отец мог бы с большей нежностью взирать на своих детей. - Мне пришлось толкнуть Бугаева, чтобы он оставался спокойным. Вскоре господину надо было выходить; он дружелюбно простился и исчез в одном из домов вблизи остановки. Неделей раньше на той же самой остановке в трамвай садился первый господин. - Где я уже видела одного и другого? Только вечером мне пришел на ум мой сон двухнедельной давности; Бугаев же внезапно вспомнил про "опознавательный знак" фрейлейн фон Мицловой. Что-то должно было произойти. Чтобы прояснить ситуацию, мы решили на следующий день отыскать тот самый дом, в котором скрылся дружелюбный господин. Листок бумаги, где Бугаев написал несколько строк и который мы намеревались опустить в почтовый ящик этого дома, был забыт на письменном столе. Однако мы могли и без письма хотя бы осмотреть местность.
Едва мы приблизились к вожделенному порогу, дверь отворилась и навстречу нам вышел, улыбаясь, любезный пожилой господин, словно желая сказать: "Ну наконец-то, входите, дети!" Тем не менее мы прошли мимо, сосредоточив внимание на витрине по соседству. Но внезапно пожилой господин оказался возле нас. Мы двинулись к следующему магазину, - он шел на нами по пятам. После двух или трех таких попыток мы перешли на другую сторону улицы, однако пожилой господин снова возник рядом. - Этого мы не вынесли и вскочили в идущий мимо трамвай.
Все эти переживания явно сопровождались сильным влечением, и это было тревожным моментом. Чего от нас хотели? Почему посягали на нашу свободу? В конце концов кто мы такие, чтобы с нами обходиться так льстиво-предупредительно?
Под впечатлением от всего этого прошло несколько недель, больше мы не чувствовали себя в одиночестве, нас неодолимо влекла какая-то могущественная сила. Кульминация этого богатого переживаниями периода пришлась на ту ночь, когда раздался стук в дверь и наша маленькая прокуренная комната заполнилась ароматом как бы от тысяч цветов; мы оба ощущали этот аромат по крайне мере в течение четверти часа.
Нас постоянно занимал вопрос: стоит ли доверять такой силе, которая настигла нас не при дневном свете, но вышла из бессознательной области сновидческой жизни и неконтролируемых, почти что спиритический явлений?
За несколько месяцев до этого я читала в кругу своих друзей менее прочих оцененные книги Рудольфа Штейнера "Христианство как мистический факт" и "Как достичь познания высших миров ". Они разрешили мой вопрос, на который до тех пор я нигде не находила ответа, - вопрос о месте христианства в историческом развитии. Вмешательство мышления (собственно в проблему чудесного), возможность действительного пути в область духа - пути, основанного на сознательном преображении личности, затем некоторые переживания при работе над этими книгами, - все это привело меня к убеждению, что моя судьба некогда окажется связанной с данным духовным направлением. Однако мне следовало ждать.
Теперь приходилось спрашивать себя: дало ли мне это изучение силу для сопротивления, когда соблазн, исходящий от вышеупомянутых личностей, стал особенно силен? В состоянии совершенной беспомощности, в котором мы находились, я внезапно сказала: "Мы можем доверять Рудольфу Штейнеру; как оккультист он открыт миру и отвечает за то, что говорит. И он не свяжет нас, мы по отношению к нему свободны. Он апеллирует не к нашему подполью, но к нашему ясному сознанию Он даст нам ответ на наши вопросы".
Прервав дискуссию и оставив нетронутым наш обед в ресторане, мы ринулись на вокзал, чтобы успеть на поезд, отправляющийся в Кёльн, Счастливое время, когда и русские могли ездить по Европе без виз!
Рудольф Штейнер в Кёльне
Маленькая гостиница "Св. Павел" располагалась тогда в точности напротив собора. Кёльнский собор не принадлежит к числу красивейших готических церквей; тем не менее он обладал неповторимым очарованием, - и не только из-за своей громадности, по контрасту с соседними убогими, узкими средневековыми улочками производящей, - почти сверхъестественное впечатление. Впервые встретить доктора Штейнера в тогдашнем Кёльне было особой удачей. Там присутствовали верный фон и масштаб, что позволяло распознать все величие этой личности. Духовное прошлое Запада меня встретило впервые за время моих путешествий именно в этом соборе. Деятельность Рудольфа Штейнера была продолжением духовной традиции: новый - духовный собор вырастал в беспредельное.
Мы ехали вдоль Рейна в новый центр одной из ветвей тогдашнего Теософского общества. Никакой дружественный прием там нас не ждал. Входили и выходили люди с чемоданами, приветствуя друг друга на лестнице. Очень крупная дама с детским лицом и дама чрезвычайно маленькая и изящная, разумеется, не могли ничего добиться от нас. Запинающийся немецкий и затрудненный французский Бугаева были неважной почвой для взаимопонимания. Наконец они поняли, что мы русские; это успокоило их, и они послали за человеком, который мог объясняться
с нами. Однако вновь появившаяся дама оказалась еще неприступнее, заявив при том совершенно официально: "Вы желаете говорить с доктором Штейнером? Он только что пришел, и у него нет времени. К тому же где это видано - прийти с улицы и говорить с доктором Штейнером?!" Сбивчивые извинения Бугаева меня не устраивали. "Мы пришли не с улицы, а приехали из Брюсселя", - заявила я с некоторой обидой. "Можно приехать и из Америки и тем не менее ждать", - последовал ответ. Это было уж слишком. Я поклонилась сколь возможно сдержанно и повернулась к двери. "Подождите минуту, - удержала меня строгая дама, - я посмотрю, что можно сделать". Мое возмущение, кажется, не смутило ее. Вскоре она вернулась и сказала, что хотя у доктора Штейнера времени для нас нет, он тем не менее приглашает нас сегодня в пять часов посетить его лекцию для членов Теософского общества.
Мы ожидали лекции в менее радужном настроении. Стоило ли мчаться сломя голову с нашими жгучими вопросами в Кёльн ради того, чтобы высиживать какую-то лекцию, к тому же на совершенно непонятном языке? - Разумеется, эти люди беспокоились о нас еще меньше, чем те в Брюсселе. Из вежливости мы все же пошли туда.
В продолговатом с голубыми стенами зале собралась примечательная публика: по большей части дамы, в основном не очень молодые; многие были в странных, похожих на рубахи платьях с прямыми стулами поверх них; многие носили на шее цепочки с причудливыми подвесками. Хотя эта претенциозность не была проявлением вкуса. Бросалось в глаза отсутствие косметики. Вызывало симпатию человечное, теплое выражение многих лиц. Можно было подметить у этих людей некую общую черту; это была не случайная публика, а единое общество. Более светски выглядела стоящая в стороне группа молодых людей. (В последующие годы я узнала их в наших соработниках при строительстве Здания: это были Ян Стутен, Макс Шурман и Кэте Митчер...)
Я наблюдала за собравшейся аудиторией почти со скукой, пока наконец - что бы это значило? - в стороне у подиума не появилось нечто вроде полоски света, заслоненной людьми; затем это световое пятно исчезло и потом возникло вновь... Наконец показалось очертание головы: доктор Штейнер. Я знаю, что это он, хотя еле могу его видеть. Вот он поднимается на подиум.
В 1909 году, более трех лет назад, я однажды видела маленькую фотографию Рудольфа Штейнера. Тогда же произошел мой первый разговор с Бугаевым. "Посмотрите: это немецкий ученый, который утверждает, что можно познать духовный мир с помощью научного метода", - сказал он мне тогда. "Отважный ученый", - ответила я. Но в этих чертах выражалась не только отвага, но и огромная серьезность, какая-то не поддающаяся словесному определению сила. - А теперь, спустя три года, мы сидели здесь, взирали на лик этого человека и вслушивались в его речь. Это было величайшее и важнейшее событие всей моей прежней жизни; оно так глубоко захватывало все существо, что было совершенно невозможно отделить себя от этого впечатления. Вживание в голос - его звучание и ритмику, в жестикуляцию, в выражение лица было столь интенсивным, что у слушателя не возникало ни единого вопроса. Слушатель лишь знал: то, в чем он сейчас живет, есть его исконнейшая родина. Только когда лекция закончилась, он спрашивал себя в потрясении: что же произошло? Из сказанного я не поняла ни единого слова, и однако благодаря одному слуху я пережила столько, как если бы поняла все.
Если я не ошибаюсь, в тот же самый вечер состоялась открытая лекция "Христос и XX век". Теперь мы с другими чувствами занимали места в убогом лекционном помещении. Внезапно у меня на коленях оказывается огромная соломенная шляпа с розами; вслед за ней движется почти что через меня крупная дама с детским лицом: это фрейлейн Шолль, руководительница кёльнской ветви, в своей работе тесно связанная с еще носящим тогда это название Теософским обществом Германии. С дружелюбнейшей улыбкой она сказала: "Доктор Штейнер ожидает вас завтра в три часа".
В эту ночь передо мной, словно подхваченные ураганом, проносились картины прошлого, вызванные потрясениями дня; ни одну из них удержать было невозможно. Бугаев тщетно пытался набраться мужества для предстоящего визита с помощью бутылки рейнвейна за обедом.
Доктор Штейнер спокойно и сосредоточенно ожидал нас в несколько затемненном помещении, сидя спиной к окну. В сумраке его глаза казались еще больше; взгляд, направленный сквозь нас и поверх наших голов, серьезно останавливался на нас. В качестве переводчика выступала фрейлейн фон Сиверс, вчерашняя строгая дама. В волнении, спотыкаясь на каждом слове, Бугаев пытался описать сложные вещи, касающиеся фрейлейн фон Минцловой.
Доктор Штейнер слушал молча. Подобно тому, как его взгляд словно заходил за созерцаемый им предмет, при его слушании также возникало впечатление, что он вслушивается во что-то совсем другое, глубинное. - Затем пришел мой черед рассказывать; и вновь мне показалось, что важнее моего рассказа для него будет то, что ему откроет мой голос, мои движения. Фрейлейн фон Сиверс попыталась шуткой разрядить возникшее между нами напряжение. "Итак, в тот раз это произошло в трамвае, а не во сне?(1) - насмешливо и как бы между прочим спросила она. - Быть может, тот господин нашел, что Вы хорошенькая?" - Она с трудом могла понять, что мы предприняли наше путешествие, чтобы спросить, следует ли нам искать контактов с другими оккультистами. Однако доктор Штейнер сохранял глубокую серьезность.
После недолгого молчания он, поднявшись, сказал: "Если вы никому не давали обещания, что ко мне не придете, тогда я вас
приглашаю. Приезжайте летом в Мюнхен. Вы сможете понаблюдать, как мы живем и работаем, и тогда вы увидите, подходит ли это вам". - Вот все, что он ответил, но настоящим ответом была сама его личность. С нас словно спала тяжкая ноша. Теперь и фрейлейн фон Сиверс сделалась дружелюбной. "Вы можете поехать с нами в Швецию?" - спросила она. "Нет, нет, приезжайте, если можете, в Мюнхен", - сказал доктор Штейнер. Мы выразили свое согласие. "Будет еще одна лекция для членов Общества. Вы придете завтра?" - спросила фрейлейн фон Сиверс. Однако у нас были с трудом полученные билеты на фестиваль Метерлинка в Брюсселе. Я не забуду удивленного взгляда фрейлейн фон Сиверс, вызванного таким предпочтением. Доктор Штейнер попрощался весело и мило, сделав характерное для него движение рукой.
Перепутав от волнения дверь в прихожей, Бугаев по ошибке ввалился в еще не убранную спальню, - к громкому ужасу целой вереницы дам, одетых по-праздничному в белое. Бедняжки долго ждали из-за нас. Доктор Штейнер должен был изыскать для беседы с нами время, которого фактически не было.
Тихое человечное тепло, все, что исходило от него, было переживанием того, что он знает тебя, знает твою глубочайшую сущность - во времени и в вечности, знает твою судьбу с ее добром и злом. Об этом свидетельствовало то, как тепло он относился к твоему существу, протягивая руку, помогая тебе прийти к самому себе; все это потрясало до глубины души.
Чтобы покончить с затронутыми здесь темами, я остановлюсь еще, забегая вперед, на некоторых вещах. Примерно в 1915 году у Бугаева произошла примечательная встреча в соборе Лозанны. Пожилой незнакомый господин после короткого разговора с Бугаевым вытащил из кармане книжку и торжественно прочитал по ней условные слова из Евангелия, которые упомянула фрейлейн фон Минцлова. Затем он простился. - "Этот господин, - сказал впоследствии доктор Штейнер, - сам не имел ко всей ситуации никакого отношения. Фрейлейн фон Минцлова умерла и не могла успокоиться, пока не закончила того, что начала. Через него говорила она".
После кёльнских впечатлений как разочаровывал мир с его блестящими достижениями! Пустым и неподлинным показалось нам большое празднество, устроенное в Брюссельском театре в честь Метерлинка. Всемирно известный эстет казался тучным мясником в сравнении с простым, но благородно-элегантным обликом доктора Штейнера: его стройная, подвижная фигура в черном сюртуке словно была окружена атмосферой XVIII века. Сквозь его черты просвечивали величие и трагизм ушедших эпох. Старец, ученый, художник, борец, юноша - его обличье постоянно менялось. На его лице всегда присутствовал некий отпечаток, который встречается только в величайших произведениях искусства. Он влиял на окружающих подобно портретам Рембрандта, показывающим скрытую сущность так же отчетливо, как и чувственно воспринимаемое. Его легкая, ритмичная походка производила такое впечатление, что Земля присоединяется к этому ритму. Корпус его был очень прямой, но подвижный, с подвижными руками и быстрыми поворотами; голова слегка откинута назад и при этом несколько наклонена вперед. Такая осанка присуща только орлу,-на память приходил и орлиный взгляд, стремительный и острый, или же широко открытый глаз орла, взирающего на Солнце, но при этом полный бесконечной боли и тепла. Многие пытались описать доктора Штейнера, но ни наши слова, ни наша кисть не могли преодолеть той пропасти, которая отделяла его от нас, - даже его внешность. - Но он встречал эти попытки с самым естественным дружелюбием. Вновь и вновь приходилось изумляться этой естественности.
Облик Марии фон Сиверс действовал совсем иначе, при этом гармонично дополняя облик доктора Штейнера: сухость, сдержанность, царственная прелесть, классическая красота, словно приглушенная официальностью. Было нелегко распознать нежность черт за цветущим цветом ее лица. Если при виде доктора Штейнера вспоминался орел, то при взгляде на нее хотелось думать о величии льва. Вызывала удивление сила, исходящая от нее и сквозящая в движениях ее нежно очерченных рук. Только ее ближайшим друзьям была знакома ее жизнерадостная веселость, ее чистый, детски доверчивый взгляд. Одежда ее была совершенно непритязательной, но ее всегда окружали цветы.
Пьер д'Альгейм
Нас посетил приехавший из Берлина старый друг и коллега Бугаева - Кобылинский, известный под псевдонимом "Эллис" - так его называли и друзья. Он слышал о нашей поездке в Кёльн. Еще в Москве Эллис страстно пропагандировал "штейнеризм", - как он выражался, - считая при этом доктора Штейнера, при всем почтении к нему, за иезуита. В течение целой недели мы были под впечатлением его вдохновенных рассказов; он был гениальным собеседником. После его отъезда все то, что прежде в Брюсселе казалось дружественным и притягательным, для Бугаева превратилось в призрачную карикатуру. Словно спасаясь бегством, он уехал во Францию, и я последовала за ним, - после чего я завершила учебу у моего наставника.
С большим нетерпением ждал меня мой дядя - писатель Пьер д'Альгейм; вместе с моей теткой, певицей Марией Олениной, он жил в домике поблизости от Фонтенбло. У них я провела несколько лет. Мой дядя был мыслителем-одиночкой, погруженным в изучение мистиков Якоба Бёме и Сен-Мартена, а также индийских правовых сборников, но прежде всего - в собственные мысли и соображения. Так он проводил то спокойное время, которое начиналось по завершении концертного сезона моей тетки. В глазах их обоих искусство требовало священного служения себе.
Я могла лишь сбивчиво и хаотически сообщить им о том, что мне до сих пор удалось усвоить из духовной науки Рудольфа Штейнера. "То, что ты мне тут рассказываешь,- сказал мой дядя, - свидетельствует об откровении, которое происходило лишь в редчайшие исторические моменты. Оно едва ли не значительнее откровения, данного Моисею. Почему это возможно в наши дни? Ведь если такое откровение не укоренено в историческом развитии, оно было бы не во благо". Мои слабые попытки ответить ему не удовлетворили его. Однако на следующее утро он, сияя, сказал мне: "Я сам отвечу на свой вопрос. Вчера ночью я перелистывал книгу Зогар и нашел там учение о семи Архангелах, которые попеременно руководят судьбами человечества. Мы вступаем в последнюю, седьмую эпоху, эпоху господства Архангела Михаила, согласно вычислениям переводчика; в течение этого периода он передаст свои обязанности самому Мессии. Но если это так, то для подготовки человечеству будут сообщаться величайшие откровения из скрытых сокровищниц мудрости... Почему я не встретился с ними? Всю жизнь я жаждал этого!"-добавил он. Судьба и впоследствии не помогла ему. Помешала Первая мировая война, а затем болезнь. Потом наступила смерть.
В тезисах лекций Рудольфа Штейнера также можно найти созвучие этому учению из книги Зогар. Так у меня появилась перспектива, внутри которой его феномен занял подобающее для него место.
Мюнхен летом 1912 года
В Мюнхене нас встречала уютная, веселая Германия. Мужчины ходили по улицам в рубашках с белыми воротничками и без шляп: такого нельзя было увидеть больше нигде. Женщины одевались со вкусом. Бугаев особенно радовался знаменитому мюнхенскому пиву. В последующий визит к доктору Штейнеру эта его радость, правда, была отравлена. Пока он еще мог им наслаждаться, посещая вечерами маленькое варьете при ресторане "Папа Бенц", неподалеку от Врат победы. Гвоздем тамошних программ был очень распространенный тогда танец апашей - с девушкой, а затем с куклой. Здесь мы отдыхали после дня, проведенного в упорной борьбе за духовнонаучный образ мира, который мы пытались обрести с помощью рисунков и схем. Над этим рестораном мы нашли для себя очень славные комнаты. "Но ведь это единственное во всем Мюнхене по-настоящему непристойное заведение, - зато знаменитое": с этими словами к нам обратился первый посетивший нас теософ. "Вы не видели ползущего по лестнице дракона? Вам надо уехать отсюда как можно скорее". Так мы переселились в хороший пансион напротив Академии искусств.
Как уже было условленно в Кёльне, по прибытии мы объявились на Адальбертштрассе, где доктор Штейнер жил у фрейлейн Штинде и графини Калькрейт. Вскоре графиня Калькрейт посетила нас. Она появилась перед нами прекрасная, как каменная королева, сошедшая с портала готического собора в чуждую ей действительность. "Доктор Штейнер желает, чтобы вы занимались немецким с фрейлейн Шолль; к вам еще придет одна жительница Прибалтики, чтобы приобщить вас к драмам-мистериям. К нему самому вам надо прийти в ближайшие дни. Вы должны очень быстро прогрессировать: ведь он так о вас заботится". Было трогательным почти детское смирение этой личности, отмеченной как высоким аристократизмом, так и дарами духа. Она дала нам адреса нескольких русских, среди которых Бугаев надеялся встретить старых московских друзей. Однако за этим последовало разочарование. "В Москве мы вас навестили, но там у вас не было для нас времени, - несколько язвительно объяснили нам не знакомые с нами супруги, - а теперь вы пришли к нам. Таково действие кармы". Скоро нас со всех сторон засыпали поучениями, касающимися оккультных новостей. "Завтра вечером вы можете пойти к доктору П.; то, что вы его не знаете, роли не играет: он вас знает уже давно". Какое счастье, что мы познакомились с доктором Штейнером еще до того, как встретили этих людей!
Отдыхом была только милая болтовня с фрейлейн Шолль; правда, немецкая грамматика преподавалась при этом слишком сокращенно. Бугаев после первой попытки также счел излишним перевод драм-мистерий Рудольфа Штейнера: он предпочитал использовать время для собственной работы. Еще в России он был убежден, что хотя Штейнер - великий оккультист, в области искусства он вообще ничего не понимает. Но едва мы подошли к изучению второй картины из "Врат посвящения" - к монологу Иоанна, мне стало ясно, что мы имеем дело здесь с некоей новой, значительной художественной формой, и я убедила его продолжать работу дальше. Одновременно с этим и доктор Штейнер через графиню Калькрейт (которая пригласила нас к нему в один из следующих дней) призвал его не прекращать работы над драмами-мистериями.
У доктора Штейнера
С сердечным трепетом мы шли к назначенному времени на Адальбертштрассе. В квартиру, переполненную посетителями, попадали с почти убогой лестничной клетки. После долгого ожидания мы были допущены к доктору Штейнеру, который без каких-либо предварительных слов написал каждому из нас своим красивым, аккуратным почерком по изречению в качестве медитации. Фрейлейн фон Сиверс перевела мне то изречение, которое предназначалось для меня, и отпустила нас, пообещав вскоре вновь позвать нас. Напоследок Бугаеву, к его огорчению, пришлось услышать, что ни один вид алкоголя,-в частности, пиво, - с духовной работой не совместим. Итак, с этим надо было распрощаться.
С того дня начался новый жизненный этап, занявший несколько лет. В жизни стали играть важную роль переживания, пробужденные полученным изречением. Доктор Штейнер посоветовал нам записывать переживания, истолковывал их и давал новые задания.
Особенно сильным было мое впечатление от того визита к нему, в котором участвовала моя сестра Наталья Тургенева-Поццо, приехавшая из России. После долгого ожидания в комнате со скудно накрытым обеденным столом, поздно вечером, нас поочередно вводили в затемненную красную комнату. За круглым столом сидели Мария фон Сиверс и доктор Штейнер. Его совершенно непринужденный вид был самым лучшим, единственным средством против моего волнения. Он спросил, в чем заключается моя просьба. Я рассказала о тех трудностях, которые испытывал близкий мне человек. "Я смогу помочь ему, но не тем, кто имеет с ним дело, - сказал доктор Штейнер. - А что еще?" Я рассказала еще об одном случае. "А для себя Вы ничего не хотите?" Но в тот момент я действительно не могла подумать, что в чем-то нуждаюсь. "Ну, это еще придет."-"Каково Ваше отношение к христианству?"-вдруг спросил он несколько строго. Этот вопрос тяготил меня уже давно, он, разумеется, был центральным, - и сколько всего я могла бы тогда сказать на этот счет, но было ли у меня на это право?! Потому я сказала, - "Поскольку я не могла найти ответа на мои вопросы относительно христианства, я решила пока не думать об этом". Удивленный взгляд фрейлейн фон Сиверс. "Эти ответы Вы найдете в духовной науке". - "Да, я тоже жду этого". - "Какое из Евангелий Вы любите больше всего?" Этого вопроса я себе никогда не задавала; но передо мной предстали начало Евангелия от Иоанна и описание в нем Тайной вечери, - и я назвала их. Доктор Штейнер при этом согласно кивнул. "И Апокалипсис", - добавила я. "Русским особенно трудно отрешиться от телесности, поэтому они говорят об Апокалипсисе", - последовал удивительный ответ. "У меня было
видение", - сказала еще я и описала его. "Когда это было?" - "В прошлую зиму". - "Я верю Вам". Но почему он сказал это, он же знал, что я говорю правду. "За этим видением последовало и другое, - продолжала я свой рассказ. - Но я тогда вовсе не думала обо всех этих вещах, они приходили ко мне как бы сами собой". - Разве Вы всегда ждете, что в Вашу дверь позвонят, ждете, что кто-то придет? Этого ведь Вы не знаете. Вы должны воспринимать эти переживания как звонок из духовного мира, который ждет от Вас работы". И после паузы: "Когда Вы ко мне пришли, Вы ведь также не сознавали, что пришли ко мне" В его словах звучала тихая печаль, словно упрек. - Такие простые слова, которые понять интеллектом зачастую было невозможно, оказывали глубокое действие на полуосознанную сферу чувств и пробуждали все новые вопросы. Разумеется, я не знала, кто он такой, но тем не менее каким-то образом наряду с незнанием присутствовало и нечто вроде уверенности. В заключение он в нескольких словах охарактеризовал те направления, в которых в будущем должна проходить моя работа.
Люди по-разному реагировали на доктора Штейнера. Бугаев от сильного волнения говорил без остановки то, что ему прямо в тот момент приходило в голову. С моей сестрой бывало так, что все мысли у нее исчезали, а в моей голове что-то оставалось, и я не умела подходящим образом отреагировать. Поэтому по большей части я молчала.
Драмы -мистерии в Мюнхене
Приближалось время показа драм-мистерий, и здесь, в Мюнхене, мы встречали множество старых и новых друзей из России. Часто мы проводили время вместе с Эллисом - русским другом, который навещал нас тогда в Брюсселе. Он был, действительно, в высшей степени удивительным явлением. Уже несколькими месяцами раньше нас он нашел свой путь к доктору Штейнеру - через Карла Маркса, Бодлера, Гюисманса и католических мистиков; изучению их всех попеременно он предавался с необыкновенным рвением. Сейчас он был фанатичным сторонником Штейнера, все прочее подлежало сожжению. Его пальто из грубого сукна походило на монашескую рясу; бледный, с горящими глазами, он казался фигурой из испанской инквизиции. Какой-то там обед для него не существовал; как одержимый, он погружался в демонические или религиозные переживания. Еще более сенсационными были рассказы о нем многочисленных "теток". (Так доктор Штейнер со своим дружелюбным юмором называл пожилых дам, как правило, из теософских кругов.) Нельзя было осуждать их за неважное отношение к Эллису. В лекционном зале он выбирал в первом ряду подходящую жертву и легким движением пальцев заставлял ее уступить ему место, так как он должен был сидеть возле пульта доктора Штейнера. Возмущение дам было велико, ибо, по их убеждению, весь ряд позади стула Эллиса входил в его "астральный хвост".
Первое представление, "Священная драма Элевсина" Эдуарда Шюре, вызвало у меня, пожалуй, разочарование. Конечно, фрейлейн фон Сиверс была великолепна в роли Деметры, но все прочее не удовлетворяло. Однако затем последовали драмы-мистерии Рудольфа Штейнера, которые произвели громадное впечатление, хотя я вряд ли что-то поняла в отношении языка. При входе в зал нам любезно поклонилась графиня Калькрейт, одетая в светло-розовое платье; фрейлейн Штинде в светло-голубом строго проверяла билеты. Следуя совету доктора Штейнера, по праздникам они всегда были одеты именно так. Рампа исчезла под широкой гирляндой из тысяч роз, - это был подарок графа Лерхенфельда, благожелательного грандсеньора, напоминавшего мне наших русских помещиков. Несколько беспомощно он играл рыцаря во второй драме-мистерии. В коридоре мы познакомились с его приятельницей из
Прибалтики - госпожой фон Вакано. Примечательное явление в развевающейся столе и с колоссальным розенкрейцерским крестом из драгоценных камней!
Фрейлейн фон Эккардштейн играла Люцифера. Она изображала соблазнителя безумных девушек при страсбургском Мюнстере. Особенно интересен был Иоанн в исполнении Миеты Валлер, дружившей с доктором Штейнером и фрейлейн фон Сиверс. Венедикта играл доктор Пайперс, - хорошо, но несколько чопорно, а Марию - фрейлейн фон Сиверс, "такая же, как в жизни". "Три душевных силы - госпожа Пайперс, Луиз Клазон и Кэте Митчер - образовали красивую группу. Штрадера и Капезиуса играли профессиональные актеры, а госпожу Больде представила Ольга фон Сиверс.
Особенно захватили меня образы Люцифера и Аримана. Как вообще можно жить, не зная о них?! Такие неожиданные и, однако, столь привычные, - как будто давно знакомые. Удивительным было то, что дух, воплощенный в них, обнаруживал себя совершенно непосредственно, - не символически. Это не было медиумическим воздействием: это было реальным внутренним событием. Одновременно слышалось суровое напоминание: современный мистический путь, как и в древности, полон трудных испытаний, только теперь они перенесены внутрь тебя. Можно ли их вынести? - В первые вдохновенные годы этот вопрос легко забывался.
После завершения мистерий у доктора Штейнера еще дважды нашлось время для разговора с нами. Теперь мы были вдвоем, так как моя сестра уехала в Россию; Бугаев воспользовался этим, чтобы описать ему в деталях наши переживания в связи с полтергейстом, причинявшим нам мучения на протяжении почти двух месяцев, - это было прошлым летом на Волыни. (Мне это казалось излишним, но удержать его было невозможно.) "То, что Вы должны были прийти к духовному, присутствовало в Вашей судьбе, - сказал на это доктор Штейнер, - но так как Вы медлили с этим, то подверглись нападению стихийного духа. Было бы гораздо хуже, не приди Вы сюда. Но теперь Вы защищены от него". (Я чувствовала, что эти слова относились и к нашим брюссельским переживаниям.)
Когда мы в последний раз пришли на Адальбертштрассе, квартира была полна ожидающими приема посетителями, и доктор Штейнер показался нам очень усталым. Мы слышали, что он пишет новую драму-мистерию "Страж порога" только по ночам, так как день уходил на другое. Рано утром появлялся посыльный из типографии, чтобы забрать написанное ночью; после чего еще не высохшие гранки доставлялись на предобеденные репетиции, которые проводил доктор Штейнер. - А теперь он должен был справляться и с этим потоком посетителей: все требовали от него как важного, так и не важного! - В тот раз мы не стали его обременять. Была уже не за горами встреча в Базеле, и мы лишь попытались в сбивчивых словах рассказать Марии фон Сиверс о том потрясении, которое вызвала у нас встреча с доктором Штейнером. "Это вы действительно пережили? Вы это поняли?" Ее взгляд говорил больше, чем ее слова. Невозможно забыть этот полный доверия, открытый, лучистый взгляд, - взгляд такой чистоты, какую можно встретить лишь в ребенке.
Для наших русских друзей, устроившихся в "уютном" Мюнхене, было само собой разумеющимся то, что мы тоже должны жить там; но доктор Штейнер сказал очень решительно, что нам надо перебираться в Берлин. Но предстоял еще базельский цикл о Евангелии от Марка.
Курсы лекций Рудольфа Штейнера
В короткий промежуток времени, отделяющий нас от цикла о Евангелии от Марка, нас посетили в Базеле наши брюссельские друзья. Однако как далеко мы уже отодвинулись от
прошлого! Нас также навестил писатель В. Иванов (часто упоминаемый М. Волошиной в книге "Зеленая змея-): его благородный профессорский облик имел оттенок эстетства благодаря поэзии, шарму и золотым локонам. Он ждал, что мы представим его доктору Штейнеру, поскольку хотел вступить в Теософское общество. Но мы были изумлены решительным отказом доктора Штейнера, который тем не менее допускал присутствие в обществе самых странных персонажей. "Пусть господин Иванов и большой поэт, - сказал он, - к оккультизму у него нет ни малейшей способности; это было бы во вред и ему, и нам. Я бы не хотел встречаться с ним; попытайтесь отговорить его". - Итак, тот, кто считал себя за русского оккультиста par exellance, на самом деле не имел соответствующих способностей.
Мистерии ставились тогда в тех же помещениях, где проводились лекционные циклы; для этого послужил также скромный зал Ханса Хубера в Базеле.
В эти дни впервые можно было услышать о том, что доктор Штейнер начал давать указания красивой, энергичной девушке Лори Смит по поводу нового искусства движения - эвритмии.
Перед переселением в Берлин мы провели некоторое время в Винцау, - в отеле, который как бы висел над Фирвальдштетским озером. Начатая работа продолжалась; ее несколько затрудняла полемика, которую Бугаев вел в письмах и статьях со своими литературными друзьями, обижавшимися на него за "штейнеризм".
После этого мы на несколько недель поехали в Дегерлох, расположенный в окрестностях Штутгарта; к этому побудили нас настойчивые требования Эллиса - друга Бугаева. Установка на всемирный мятеж (у которой сменялись объекты, но не интенсивность чувства) привела его к разрушительным переживаниям, укорененным в тяжелой карме прошлого. Доктор Штейнер делал все возможное, чтобы помочь ему. Эллис исписал целую тетрадь вопросами к нему, которые касались сокровеннейших
знаний. Никто из нас не осмелился бы задавать подобных вопросов, - однако доктор Штейнер собственноручно писал рядом ответы. На робкое возражение, не опасно ли, дескать, давать в руки столь хаотичному человеку подобные знания, он ответил лишь, что обязан так поступать.
Берлин в 1912/13 годах
Берлин, конечно, нисколько не походил на уютный Мюнхен. Берлинцы смотрели на посторонних несколько свысока, и все вновь приходилось выслушивать, что нет ничего красивее их города.
Неподалеку от Моцштрассе, против Ледового дворца, мы нашли, как нам показалось, хороший пансион. Великолепная мраморная лестница вела хотя и в менее чистые, зато обставленные с претензией помещения. Над моей кроватью красовалось изображение толстой розовой богини почти "в натуральную величину". Наши соседки (рядом с нами жили сплошь женщины) незаметно для нас курсировали взад и вперед по темному коридору; только поздним вечером мы встречались с ними, когда они направлялись в Ледовый дворец, напоминая райских птиц благодаря пестрым перьям и парче. Здесь на мраморных ступенях должно быть обитали совсем другие "драконы", чем те, от которых нас предостерегали в Мюнхене в связи с "Папой Бенцем". Но мы ничего подобного не замечали, - с такой силой нас вновь захватил поток духовной жизни возле Рудольфа Штейнера.
Разговоры о России
Вскоре после приезда у нас произошел первый разговор с доктором Штейнером, - в крошечной комнате на Моцштрассе, украшенной лишь пестро раскрашенным лепным изображением Архангела Михаила с драконом. Эта беседа, равно как и последующие, состояла в основном из его рассуждений о России; но их точный порядок по прошествии столь долгого времени воспроизвести невозможно.
Разговоры эти начинались со слов о России, которые тогда были доступнее для непосредственного чувства, чем для понимания, и крепче удержались в памяти, чем указания в связи с будущим. И по мере врастания в это будущее смысл этих слов также прояснялся,
"Народ - это организм, имеющий собственные члены. Россия уже достигла состояния живого организма. Россия обладает собственной нервной системой: это Гоголь и Достоевский. У нее есть своя мускульная система - Толстой. Но скелета у нее все еще нет. Для других европейских народов скелет создается естествознанием. Для них это так и должно быть: тем самым они воспитывают свое мышление. Но русские с их мышлением не хотят приближаться к этим знаниям: чувство русским подсказывает, что им следует поберечь свое мышление для чего-то другого. Естествознание не сделается для русских мыслительными подмостками, лесами. Оно - яд для них. Только духовная наука может дать России скелет, стать лесами для нее. Путь к этому - гётеанство, тот способ, которым Гёте наблюдал природу, гётевское природоведение. Россия всегда была готова воспринять лучшее в культурном достоянии Запада. Ныне ей следует открыться навстречу гётеанству. Русским ученым поможет это осуществить определенная одухотворенность мышления; художникам это будет труднее".
Чтобы разъяснить эти мысли, выраженные простыми словами, - мысли, которые из-за их сжатости, возможно, кому-то покажутся странными, - необходимы значительные дополнения. Позднее, во время войны, в лекциях 1917 и 1918 годов доктор Штейнер говорил еще решительней: не нужно было бросать на Россию разрывных бомб, посылать туда революционную литературу, - то же самое действие оказали бы одни безобиднейшие научно-популярные книжки, которыми Россия была завалена в последние десятилетия.
Для меня прежде всего оставался нерешенным вопрос, почему доктор Штейнер считал Гёте столь важным для дальнейшего развития России. Лишь после долгих лет пребывания в Дорнахе мне стало понятнее значение для России гётевского мировоззрения.
В дальнейших разговорах о сущности русского народа доктор Штейнер показал, как это отразилось в его самых значительных представителях.
"Соловьев и Толстой - два столпа, два вождя будущего развития России, Через них России подаются благоприятные импульсы для будущего. Оба они характерны для России. На Западе всегда думают, что нужно что-то делать. Для Толстого "неделание - гораздо важнее "делания". В нем уже можно заметить первые зародыши, - нечто самое изначальное, - шестой культурной эпохи. Так, в своем "Календаре" он пытается включить жизнь в некий космический ритм. Это принадлежит будущему".
Из биографии Толстого, написанной его дочерью, видно, какое большое значение он придавал - вплоть до последнего дня жизни - тем мудрым изречениям, которые он собрал на каждый день.
Еще доктор Штейнер говорил о толстовской книге "О смысле жизни", которую считал одной из важнейших книг благодаря присутствующему в ней моральному импульсу. В "непротивлении злу насилием" он усматривал заслуживающее внимания стремление к новому христианству. - Незабываемым для меня остается то тепло, с каким он сказал спустя много лет в Дорнахе, перед статуей Христа, вырезанной им из дерева: Толстой еще не нашел идеи деятельно-активного отношения христианства ко злу. - "Это я попытался выразить в данном жесте: устремленное вперед, деятельное здесь - бытие христианского начала, причем в движении руки нет ничего воинственно-агрессивного".
... "У русских эфирные тела мягче, подвижнее, чем у людей Запада, Благодаря этому их мышление сильнее открыто навстречу спиритуальному. - Соловьев мог быть только русским. В духовном мире он встречается как странник; после смерти он сделался значительнее, гораздо значительнее, чем был при жизни. После смерти индивидуальность расширяется, растет, и Соловьев, вросший в духовный мир, гораздо крупнее. Однако он должен был и он мог стать гораздо значительнее, чем он есть"... В этих словах слышен оттенок разочарования. "Русские от природы духовны, но им встречаются трудности, препятствия. Соловьев находился на такой ступени духовного развития, когда человек обязан ориентироваться исключительно на сферу чистого духа. Но полностью он этого не исполнил. Это стало препятствием в его развитии. В воззрениях Соловьева есть что-то душное; русским от этого вреда нет, но для других европейцев в известной степени это опасно.
Помещение "ветви" Общества
Помещение на Гейзбергштрассе, где располагалась "ветвь" Общества, было похоже на корабль или островок посреди бушующего моря современной жизни большого города. Впервые там доктор Штейнер предпринял попытку оформления помещения. Стены были выкрашены в насыщенно-синий цвет, в еще более темно-синий - дверь, пол, окна и стулья. Установленная в стороне кафедра была также темно-синей; на нее поставили букет сияющих красных роз. Шторы на окнах были светло-голубыми, потолок также был затянут светло-голубой материей, которая, надуваясь, свисала вниз причудливыми волнами, поскольку была сильнее стянута по линии швов. Это оказалось нежелательным моментом, и было приложено много усилий, чтобы устроить переход (в виде каплеобразных форм) из материи, покрывающей потолок, к более темным стенам. В промежутках между окнами установили бюсты Гегеля, Шеллинга, Фихте и Новалиса, а также повесили два офорта с картин Рафаэля.
Фрейлейн фон Сиверс определила для нас места во втором ряду, непосредственно за ее собственным стулом. Благодаря этому я могла восполнять свое недостаточное понимание языка, наблюдая за исключительно выразительным лицом лектора, взгляд которого исходил из самых глубин его существа.
В "ветвь" приходила госпожа Христофорова, всегда с большим букетом роз; она принадлежала к богатому купеческому роду, - в России это было особым сословием. Букет она прятала в щель под кафедрой, а после лекции вытаскивала розы и раздаривала освященные этим способом цветы; так в России приносили в церковь для освящения пасхальные яства. Некоторых подобное шокировало, но фрейлейн фон Сиверс позволяла ей делать это - ничего другого подарить она не могла, и ей не следовало препятствовать. У Христофоровой было сильное атавистическое ясновидение, и доктору Штейнеру стоило многих усилий его заглушить. - Полной противоположностью ей была госпожа Бергенгрюн, также из рода русских купцов, но гордящаяся своим европейским интеллектом . Нам были знакомы только эти две особы: в Берлине каждый жил сам по себе.
Несколько раз фрейлейн фон Сиверс приглашала нас к четырем часам на чашку кофе. В их квартире также были заметны опыты доктора Штейнера по оформлению пространства. Нас удивила красивая мебель красного дерева, покрытая темно-фиолетовой краской в соответствии с цветом стен. - Мария фон Сиверс и Рудольф Штейнер оба были блестящими собеседниками.
Доктор Штейнер охотно рассказывал анекдоты, большинство из которых даже вошли постепенно в его лекции. Такова история о двух дамах. У одной был попугай, и она придавала огромное значение его прошлой инкарнации. Другая считала недопустимым
говорить о реинкарнации птицы. "Однако с моей собачкой дело обстоит совершенно иначе, - говорила она. - Ведь у нее такая высокоразвитая душа". И поэтому собачку следовало брать с собой на лекции, а если дальше передней она не шла, то хотя бы оставлять ее там. - Или вот анекдот о другой даме, которая брала с собой во все поездки голубя по имени Руди. Но однажды Руди отложил яйцо, и с того момента его пришлось называть Труди, так что, конечно, птица утратила кое-что из своего символического значения. "И я никогда не упускал случая, - заключил доктор Штейнер, который был настоящим кавалером, - спросить у нее: "Как поживает Ваш голубь?"
Разговоры при этих посещениях были весьма увлекательными, но помимо того во время них мы чувствовали, что по ту сторону слов происходит какое-то другое событие. Однако сознательно "перехватить" его мы были не в состоянии.
Лекционные поездки
Наша берлинская жизнь прерывалась поездками в различные немецкие города в связи с лекциями доктора Штейнера. Мы чувствовали, что лекция на одну и ту же тему в каждом городе звучит по-своему; при этом лекции в "ветви" сильно отличались от общедоступных. В общедоступных лекциях доктор Штейнер был беспощадным борцом. Все внутреннее, интимное оставалось незатронутым. Строгий ход мыслей и жесткие формулировки. "Но почему этот человек так кричит?" - спрашивали некоторые слушатели. Требовалось время, чтобы понять, что это была борьба, реальная встреча с неистинным, абстрактным, а также враждебным по отношению к его ощущению, столь разительно отличающемуся от нашего. Эти лекции были самым важным для нас событием, и мы могли участвовать в нем хотя бы одним своим присутствием.
Вот уже несколько месяцев мы принимали участие в работе и жизни Теософского общества, однако вопрос о нашем членстве в нем постоянно откладывался. "Мы ведь скоро отделимся от этого общества, - говорила фрейлейн фон Сиверс. - Зачем вам обременять себя еще и этой кармой?" Однако оба они несли эту карму, и поэтому мытоже хотели взять ее на себя. Самое большое впечатления на меня оказало то, что не доктор Штейнер выходил из Теософского общества, а от его друзей исходило желание, чтобы Анни Безант оставила руководство им, так как она нарушила устав общества, закономерным следствием чего стало исключение доктора Штейнера. Это отделение состоялось в Кёльне во время Рождества 1912 года; так было основано Антропософское общество. Параллельно с этим читался цикл "Бхагавад Гита и Послания апостола Павла". Бугаев с большим воодушевлением реферировал эти лекции для группы русских, которые не чувствовали себя уверенно в немецком языке.
Еще до того, как мы поехали в Кёльн, нас настигло захватывающее переживание в связи с рождественской лекцией в берлинской "ветви". Хотя мы не были глубоко знакомы со значением рождественских недель, мы ощущали как никогда духовный подъем. Невозможно забыть, как тепло говорил доктор Штейнер в рождественский вечер. - В красной "комнате искусств" на Моцштрассе состоялось небольшое представление "пастушеского действа". - Мария и Иосиф были без специальных костюмов и выглядели по-бюргерски, но приветливо; они сидели перед нами на двух стульях. Позади них на стул возле рояля взобрался Ангел, который должен был петь. Пастухи - кажется, их было двое - уселись перед ними на пол. И тем не менее, благодаря этой простоте в игре ощущалась большая драматическая сила. То, что здесь было представлено в образах, становилось душевным событием и обогащало ночной образный мир.
"Вы созерцаете отражение Вашего астрального тела, а также то, что приходит из Акаша-Хроники в эфирное тело подобно тому, как воспринимаются чувствами отражения "я" в физическом теле, впоследствии Вы познаете себя в качестве целого", - сказал мне при одной аудиенции доктор Штейнер об образном мире моих рисунков, которые я захватила с собой. Он указал на один из рисунков: "А это Вы в Вашей предшествующей жизни". - "Ну, мне она нравится больше такой, какая она есть сейчас", - на ото фрейлейн фон Сиверс. "Но она была священником, - ответил он. - Вам интересна Ваша предыдущая жизнь? Нет? Хорошо, что до сих пор Вы этого не хотели, но Вам надо работать над тем, чтобы вспомнить ее". Он считал однако, что некоторые переживания для нас были бы преждевременными. Им сопутствует излишнее напряжение, причем известная противоположность между миром переживаний и течением жизни угнетала бы нас. Мне также казалось, что доктор Штейнер ожидает от меня чего-то другого, - того, к чему я не способна. Мы нуждались в нескольких месяцах отдыха, а внешние обстоятельства требовали поездки в Россию. "Если вы того действительно хотите, судьба устроит так, что вы вернетесь, - если вы этого хотите", - и доктор Штейнер простился с нами: "До встречи в Гельсингфорсе".
В России
Итак, весной 1913 года мы уехали на Волынь к моей матери, а оттуда направились к матери Бугаева, которая владела старым имением вблизи Москвы. Эта хорошо знакомая помещичья жизнь показалась мне чужой, почти враждебной. Угрюмый парк, великолепный, но разрушающийся дом, которые хозяин перекультивирует и одновременно запускает, составляли свой собственный причудливый мир. Красивое прошлое без будущего. Мы были рады, когда приблизился отъезд.
По пути в Гельсингфорс Бугаев захотел несколько дней провести в Петербурге, чтобы навестить кое-каких старых друзей. Первым мы встретили поэта Александра Блока. Братская любовь, но также "братская вражда" были тяжелым роком, висевшим над этими отношениями; он принял нас с радостью, в которой таилась старая боль. В прекрасном лике еще сильнее, чем прежде, чувствовалась застылость. Он трогательно радовался за нас, - за то, что в Штейнере мы нашли нечто великое и приносящее счастье, - однако это, дескать, не для него. Он слишком много перестрадал, чтобы сохранить надежды на новую жизнь.
У Дмитрия Мережковского нас ожидало холодное разочарование. Его супруга, поэтесса Зинаида Гиппиус, -уже немолодая, странной наружности, - приняла нас с прохладной любезностью, исключающей настоящий разговор. Сам Мережковский был заинтересован в нем еще меньше: он слышал только самого себя, в отношении других, казалось, он был по-настоящему глух. Третий в этой компании, их друг Философов, из-за своей комплекции занимал много места, но несмотря на известное благодушие, производил впечатление какой-то дыры в пространстве.
"Философофофов": так фонетически охарактеризовал его однажды доктор Штейнер. Он не мог без досады вспоминать о встрече с этой троицей в 1906 году в Париже. Вот что он рассказывал: "Дама играла своей красивой туфлей, все время глядя на нее. Он, Мережковский, очень долго кричал о "коммуне", - подразумевая при этом "коммунион"(2); мы не понимали, о чем идет речь. Затем он потребовал, чтобы я ответил на последние вопросы. "Охотно, - сказал я, - если Вы ответите мне на предпоследние". Так что мы плохо поняли друг друга!"...
Из тех, кто принадлежал к писательским кругам, с которыми дружил Бугаев, на его отношение к Рудольфу Штейнеру особым образом отреагировал один человек - философ Николай Бердяев. Приведу краткие выдержки из его писем 1912 года к
Бугаеву, сохранившихся случайно, они характерны для тогдашней постановки вопроса. Эти письма побудили Бугаева спросить у доктора Штейнера, может ли быть допущен Бердяев, не являющийся членом Общества, на предстоящие лекции в Гельсингфорсе об "Оккультных основах Бхагават Гиты".
(Из письма к Бугаеву от 8 июня 1912 года)
"Уже несколько лет я испытываю большой интерес к Рудольфу Штейнеру, он мне близок. Я изучил его книги. (...) Хотя мне не нравится его стремление уподобить мистику науке и сделать оккультизм чем-то естественнонаучным в духе Геккеля, (...) однако я считаю его выдающимся человеком, значительным явлением. (...) Я охотно поехал бы в Мюнхен ради встречи с ним, но это невозможно. (...) Я считаю оккультизм одной из основных проблем нашего времени. В личности Штейнера проявляются в обостренном виде старые, тысячелетние судьбы оккультизма. Лучшая книга Штейнера-"Как достичь познания...". Ей присуща удивительная ясность и последовательность в мыслях. В связи с ней у меня есть вопросы, на которые Вы сможете мне ответить благодаря Вашему близкому знакомству со Штейнером. (...) Оккультизм Штейнера считается формой христианского гнозиса. Почему весь этот путь (путь посвящения) идет "снизу вверх", - только через человеческое усилие, без благодатной помощи сверху? - Тайна человека не отделима от тайны Христа; человеческая природа не только тварная. Она причастна Божественной природе через Богочеловека. Эту тайну христологии открыли мистики, а у Штейнера никакой христологии нет, поэтому его антропософия неверна. Что это значит? (...) Другой вопрос: почему в конце концов он отрицает дионисийскую силу, инстинктивно-бессознательный жизненный элемент? (...) Почему он такой рационалист? (...) Наконец третий вопрос: признает ли Штейнер творческое в качестве абсолютно изначального, признает ли творение никогда не бывшего через человека? Не является ли путь посвящения неким пассивным обучением (...) какой-то
древней, статичной на протяжении многих тысячелетий, творчески не возрастающей мудрости?
В моих глазах священство непоколебимо, его не может затронуть никакая революция. (Я человек церковный.) Но пророчески-творческая область свободна и не может быть скована консервативно-священническим духом".
Во втором письме из Москвы, датированном 9 декабря 1912 года, он пишет, в частности, следующее:
"Этим летом и осенью я много читал и перечитывал Штейнера. Внутренне многое для меня прояснилось и было заново осознано. Во многом я против штейнеровского пути. Но у меня нет враждебности к нему. (...) Я придаю ему огромное значение и вижу в нем симптом великого космического поворота, обращения к тем тайнам Космоса, которые до сих пор были скрыты как от Церкви, так и от науки. Я ощущаю содрогание физического бытия. Налетает сильный космический ветер, и человек может быть унесен космическими вихрями, если он будет и впредь оставаться в неведении. (...) Но необходима также религиозная опора, чего штейнеризм не дает. На путь оккультного познания космических тайн нужно вступать со Христом. (...) Меня очень заинтересовали первые гносеологические сочинения Штейнера, его книги о Гёте,-мои собственные мысли удивительно созвучны ему. (...) Я тоже считаю познание внутренней, творческой силой бытия".
Бердяев не замечает, что этой своей последней фразой он опровергает упрек в адрес штейнеровского оккультизма, высказанный им в предыдущем письме. Он мог бы подкорректировать и прочие упреки, - особенно после своей поездки в Гельсингфорс. Вместо этого в своей автобиографии в связи с воспоминаниями о встрече с Рудольфом Штейнером он избирает пренебрежительный тон превосходства. Так человек проходит мимо того, что могло бы оказаться ему - в соответствии с его существом - ближе всего.
Поездки на курсы лекций Рудольфа Штейнера
В Гельсингфорсе мы остановились в той же самой гостинице, в которой предстояло жить доктору Штейнеру. Постепенно образовалась группа примерно из тридцати русских, - нечто ироде "русской провинции". На длинной деревянной станционной платформе, - уже в такой близости от России, - мы пережили счастье от возможности встретить с цветами тех, кого ожидали. Фрейлейн фон Сиверс была ослепительно хороша, доктор Штейнер - сердечен и серьезен в своей обычной любезности. - Мы полюбили прогулки по пляжу в прекрасные белые ночи; множество разговоров велось со старыми и новыми друзьями.
Среди них выделялся своим нервным возбуждением философ Бердяев, для которого Бугаев выхлопотал разрешение прослушать с нами этот цикл доктора Штейнера. Невероятная смесь надежды, изумления и отрицания бурлила в нем. Он знал, что утратил бы значительную долю самоуверенности, предоставь он доктору Штейнеру место в своей душе в соответствии с чувством истины. Мучимый разладом, он в возбуждении пробегал все белые ночи по берегу моря.
С величайшим волнением ожидал доктора Штейнера еще один друг - Александр Поццо, за которым была замужем моя сестра. Ему предстояло увидеть доктора Штейнера впервые.
Уже вскоре после приезда доктора Штейнера нас позвали к нему. Он сразу сказал, обращаясь к каждому из нас в отдельности: "Я прошу Вас прийти завтра в лекционный зал на эзотерический урок". Так для меня отпал долго мучивший меня вопрос: имею ли я право находиться вблизи него, если, как мне казалось, я веду себя иначе, чем он от меня ожидает. (Только спустя четыре года после этого мы обсудили это недоразумение.)
От нашего дорогого друга Поццо мы узнали, что он обратился к фрейлейн фон Сиверс с такими словами: он приехал не в качестве приверженца антропософии, поскольку у него еще есть сомнение, не антихрист ли доктор Штейнер. Этот вопрос задавали себе многие религиозно настроенные русские. "Ну, проверьте это, -ответила фрейлейн фон Сиверс, - и если Вы сочтете обоснованным Ваше недоверие, то имейте также мужество сообщить нам это". Однако открытость Поццо непосредственным впечатлениям позволила ему навсегда обрести полное доверие к доктору Штейнеру.
Эзотерические уроки стали для нас как бы медитацией, проводимой самим Рудольфом Штейнером. Возникали новые отношения с ним и с руководимым им кругом. Сильное действие оказала лекция, которую он прочитал специально для русских слушателей курса.
На обратном пути мы проехали через Москву без остановки, с одного вокзала на другой. Как хороши были золотые купола ее церквей, ее домики, дремлющие в садах, ее старые дворцы! Я навсегда прощалась с этой Москвой. Моя мать устроила для нас временное пристанище в новом, еще только строящемся большом доме, - уже не в том деревянном домишке, где два года тому назад нас мучил стихийный дух. Вид был прямо на лесок, где росли древние липы, принявшие самые удивительные формы благодаря причудливой игре природы. Было чувство, как будто ты в сказочном мире, в окружении разнообразных стихийных существ, материализовавшихся в деревьях; тревожно-жуткое сквозило в приветливости зелени и очаровании цветов. Бугаев не находил себе покоя в этом месте. Его нервозность росла также из-за постоянно осложняющихся отношений с друзьями по литературному миру.
Поэтому мы были рады тому, что судьба дала нам возможность проводить время в основном в Германии.
Снова Германия (Мюнхен, 1913 год)
В приветливом Мюнхене мы встретили множество старых и новых друзей. На этот раз ставились третья и четвертая драмы-мистерии (без драм Шюре). Во время представлений мне
довелось сидеть рядом с Эдуардом Шюре. Крупный, красивый тип писателя старого поколения. Пожилой господин то и дело засыпал; будили его только резкие повороты в ходе действия: "C'est bien, c'est tres bien, - бормотал он, - c'est comme chez moi"... и вновь впадал в сон. Мой бессильный гнев не доходил до него. Тем не менее, несмотря на неблагоприятное впечатление, надо было почтительно относиться к той великой судьбе, которая связана с этой личностью.
Сколь трагичным был конец последней драмы-мистерии: распалось все то, что должно было основать новую общину. У учеников Бенедикта осталась лишь способность узнать Аримана. Имело ли это какое-то отношение к будущему? - Пятую драму-мистерию (ее тема - Дельфы) предполагалось ставитьв 1914 году в будущем Иоанновом Здании в Дорнахе.
В тот раз нам посчастливилось долго пробыть у доктора Штейнера. После того как он просмотрел и обсудил мои рисунки, разговор перешел на глиптотеку. "А Вы встретили там Толстого?" - внезапно спросил он у меня. Я ответила утвердительно с большим удовольствием, так как меня много лет занимало сходство Толстого и Сократа; его вопрос был мне понятен. "Я не понимаю одного - почему он снова притащил с собой свою Ксантиппу", - сказала я. "Но графиня Толстая никакая не Ксантиппа!" - возразила фрейлейн фон Сиверс. "Нет, нет, она настоящая Ксантиппа", - сказал он безучастно. Во всяком случае это соответствовало моему впечатлению при знакомстве с ней. Все это я сочла, однако, за шутку.
Доктор Штейнер приглашал нас к себе еще раз во время этого второго пребывания в Мюнхене. Из моей памяти выпало то, о чем тогда говорилось, но его образ остался незабываемым: вот он спокойно сидит в маленьком темно-синем помещении; на коленях книга, покрытая иероглифами, мягкий свет свечи, дневная суета где-то далеко... Здесь царит покой, в котором теплый взгляд его широко открытых глаз прослеживает через тысячелетия пути судьбы.
Важным событием стало первое эвритмическое представление, организованное Лори Смит. Были показаны различные групповые упражнения. Несколько молодых людей в белом продемонстрировали упражнения с палкой. Большое впечатление произвело переведенное Лори Смит на язык эвритмии стихотворение Гёте "Харон". На ней было желтое шелковое одеяние, в руке - золотой молоток, которым она размахивала и в определенных местах стихотворения ударяла о пол.
После мюнхенских спектаклей мы поехали в Христианию (Осло), чтобы ожидать там лекций Рудольфа Штейнера о "Пятом Евангелии". Поэтому день закладки дорнаховского Здания - 20 сентября 1913 года - мы встретили вдали от Дорнаха. Но непонятно почему, этот день имел для нас исключительное значение. В тот же самый вечер по указанию доктора Штейнера была основана московская "ветвь" Антропософского общества.
В Норвегии
Скудна и одновременно величественна северная природа, - особенно благоприятна она для духовной работы. Еловый лес, скалы и воды - все свидетельствует о чем-то другом, - не о болезненном томлении, ощущаемом в русской природе. В вечерних красках на фьорде как бы сквозит таинственный лик, распростертый над миром...
1 октября начался цикл о Пятом Евангелии. В ходе лекции постепенно исчезал банально обставленный зал с нарисованными на потолке голубями. Голуби упархивали прочь, а на нас сверху опускалось что-то вроде небесного сюда, населенного существами из света. А внизу под нами выстраивались в ряды те, кого мы не видели, но чье присутствие можно было почувствовать.
В центре - Рудольф Штейнер, такой нежный и хрупкий в своем черном сюртуке; взгляд его широко открытых глаз был
устремлен в одну цель. Так он извлекал наружу те сокровища, которые скрывались в мировой истории на протяжении двух тысячелетий. Из-за того, что он сам бьшал глубоко потрясен, ему иногда отказывал голос, слова произносились с трудом и звучали неуверенно.
В конце цикла мы стояли в своем углу как оглушенные. Он издали поспешил к нам, чтобы вновь пожать нам руки и поинтересоваться нашим впечатлением. Но что здесь могли бы выразить слова!
Чудесной была совместная поездка в горы. Маленький поезд не торопился, часто и подолгу стоял на станциях. Можно было прочувствовать подъем в горы, ощутить пьянящую чистоту воздуха, разглядеть прозрачность красок, мерцание зеленовато-голубых сланцевых скал. Мария фон Сиверс пришла в наше купе; она рассказывала о северной природе и ее певце Ибсене, пробившемся из душевной скудости к духовной высоте. (Андрей Белый в своих "Записках чудака" называет ее "сестрой",-к великому смущению его издателя.) С помощью этого разговора Мария фон Сиверс хотела разрядить то напряжение, в котором с момента окончания цикла находился Бугаев.
Незадолго до смерти он сообщает в своей автобиографии о том, что важнейшие события его жизни происходили в октябре 1913 года. Происходили они внутри него.
Берлин в 1913 - 14 годах
На этот раз в Берлине мы поселились в приличном пансионе. Держали этот пансион две маленькие пожилые дамы, которые готовили нам отвратительную вегетарианскую еду. Есть мясо стало тогда для нас невыносимым. Наша соседка госпожа Христофорова заботилась о цветах и пирожных. Вскоре в Берлине устроились также моя сестра и Поццо.
Первые зимние месяцы проходили тоже под знаком Пятого Евангелия. Доктор Штейнер читал лекции на эту тему в разных местах, привлекая все новые данные духовных исследований. Самыми захватывающими оказались мюнхенские лекции о "трех встречах" на пути к крещению. Возникало чувство непосредственного присутствия среди сурового ландшафта Иудеи, знакомого нам по совершенному путешествию; но теперь он был пронизан светом разыгрывающихся там событий.
Доктор Штейнер дал нам новые указания относительно нашей внутренней работы, - в качестве начала того пути, основания которого, как он сказал, были уже заложены. Эти новые задания пробудили в Бугаеве богатый мир образов, к которому его всегда влек поэтический дар, но теперь этот мир имел для него еще большее значение. Поначалу мне пришлось помогать ему делать рисунки, впоследствии он самостоятельно рисовал и раскрашивал свои образы, благодаря чему они стали оригинальнее. Но все это не оказало никакого действия на его нервозность.
Приходили все новые слухи о начале работ над Зданием в Дорнахе. Для нас было очевидно, что мы тоже посвятим себя этому делу. По поручению Рудольфа Штейнера Мария фон Сиверс сообщила мне, что я буду работать над цветными оконными стеклами. Некоторые образцы для них мы вместе с одной известной художницей видели в помещении "ветви" на Моцштрассе. "Какая безыскусная символика!" - сказала тогда художница. Я же увидела в композиции смелый, новаторский стиль, который, как и в случае драм-мистерий, восходил непосредственно к духовному.
Говоря об этом новом жизненном этапе, надо еще рассказать о разрыве с одним старым другом. Мы получили письмо от Эллиса, который сообщал нам, что он выходит из Антропософского общества и расстается с доктором Штейнером. Этот последний не то, чтобы преуменьшил роль Люцифера в мировом развитии, - в чем Эллис его раньше упрекнул: напротив, его ошибка якобы состояла в приписывании Люциферу вообще какой бы то ни было роли; и вот теперь он, Эллис, распознав это, прибегает к покровительству Пресвятой Девы в недрах католической Церкви. От Нее ждет он спасения для себя. - Вступать в дискуссию с ним не имело никакого смысла. Мы поехали в Штутгарт, только чтобы отвезти ему тетради с его вопросами и ответами доктора Штейнера. Эллис швырнул их нам через приоткрытую дверь. - Около года спустя в одном из московских издательств (которое было основано главным образом благодаря Андрею Белому) появился под название "Vigilemus!" памфлет Эллиса, направленный против Рудольфа Штейнера. Так закончилась решающая глава этой столь трагической судьбы.
Вскоре в Берлине состоялось общее собрание Антропософского общества, во время которого мы впервые увидели на фотографиях пластические формы модели Здания, колонн, капителей с подвижными архитравами над ними (это был совершенно новый строительный стиль). Руки рвались к работе: хотелось благодарить за то безмерное счастье, которое выпало на нашу долю. Это было начало новой культурной эпохи, - великое время. Над Европой все сильнее сгущались роковые тучи, и в душной предвоенной атмосфере, словно в кошмаре, мчалась на бешеном холостом ходу жизнь современной цивилизации. Но кто думал об этом? Также и нам, предчувствовавшим надвигающуюся беду и потому искавшим путь к Рудольфу Штейнеру, это апокалипсическое настроение не казалось актуальным из-за полноты все новых духовных откровений. Доктор Штейнер был тем самым человеком, кто вновь и вновь пытался встряхнуть нас, предостеречь и призвать к большей бдительности. В его словах звучал глубочайший трагизм, бесконечно трогательная боль перед испытаниями, предстоящими человечеству. Нельзя было терять ни единого мгновения; пока время еще позволяло, надо было сказать все. Дух захватывало от той энергии, с которой он вел нас в светоносный мир спиритуального знания, как бы восходя в полете все выше и выше.
Тогдашние переживания лучше всего выразились в словах Христиана Моргенштерна из его стихотворения, посвященного Рудольфу Штейнеру: "К красоте ведет твое дело". - "Головокружительное чувство", о котором поэт говорит, что оно поднимает высоко над грозными облаками в область света, своей кульминации достигло в лейпцигском цикле "Христос и духовный мир". После того как в "Пятом Евангелии" нас ввели в те события, разыгравшиеся в мире перед крещением, с которыми был связан путь Иисуса, - теперь для нас прояснились сверхчувственные события, сопутствующие схождению в мир и воплощению космического Существа Иисуса, - Существа, Которое в предшествовавшей всемирной жизни определяло наше человеческое становление.
В один из тех дней состоялся утренник, во время которого Рудольф Штейнер произнес речь, посвященную Христиану Моргенштерну. Большой, празднично украшенный светлый зал составлял для этого события прекрасный фон. Христиан Моргенштерн, закутанный в шубу, - в его взгляде и лике уже сквозила близкая смерть, - слушал, как Мария фон Сиверс в первый раз читает его стихотворения из цикла "Мы нашли тропу".
В Дорнохе
Сияющий зимний день, почти такой, какие случаются высоко в горах, застала я в Дорнахе в феврале 1914 года. Склоны были покрыты глубоким снегом, который сохранялся на протяжении целого месяца при сухом, прогретом солнцем зимнем воздухе, - редкость для этой местности. Воскресный покой царствовал на холме, который был заметен уже издалека из-за высоких строительных лесов. В их пронизанных солнечным светом сквозных формах, возвышающихся над бетонным фундаментом, уже намечался двойной купол. В сопровождении незнакомого голландца я вскарабкалась наверх по выложенным спиралью доскам,
которые образовывали внутри между лесами примитивную лестницу. Эти леса выполняли роль форм будущего внутреннего пространства Здания; вокруг них вскоре должны были вырасти его стены.
Вновь спустившись вниз, я встретила перед деревянным бараком - столярной мастерской - доктора Штейнера. В шубе и высоких сапогах он возвращался с работы над наружными моделями, которые располагались в небольшом помещении позади столярной. Он бережно вел под руку Марию фон Сиверс, укутанную в беличью шубку. - "Она растянула себе ногу, надо быть с этим внимательными, - сказал он. - А что, Бугаев остался в Базеле?"
Когда на следующий день мы с Бугаевым шли сюда из Арлесгейма, нам навстречу в чистом зимнем воздухе уже издалека доносился через заснеженные поля оживленный стук молотков с лесов Здания; удары о деревянные балки были мягкими и ритмичными. Более трехсот рабочих трудились на лесах и в прилегающей к Зданию столярной мастерской. Примерно восемнадцать членов Общества руководили работами и осуществляли надзор. Мы встретили их всех, когда они вместе с доктором Штейнером сосредоточенно наблюдали за тем, как стройное, свинченное из досок ребро, покачиваясь в воздухе, направлялось на свое место, где его устанавливали на строго вертикальный участок деревянной стены. Эти деревянные стены, стоящие на бетонном фундаменте, состояли из толстых балок, лежащих горизонтально одна на другой. К вечеру уже были установлены несколько купольных ребер. И теперь также распознавались первые очертания малого купола вместе со стеной восточного помещения, как бы намекая на то, что за этим последует.
Работа продвигалась с невероятной скоростью. Быстро выросли стены большого купола, а через несколько дней появилась внешняя форма двух взаимопроникающих пространств. Затем сюда добавились два боковых флигеля, а ребра купола были устланы гибкими, блестящими досками.
Вскоре после нашего прибытия мы были приглашены на обед доктором Гросхайнцем и его супругой. У них в старом Бродбекхаусе (впоследствии - "склон Рудольфа Штейнера") жили Рудольф Штейнер и Мария фон Сиверс. Беседа велась в основном хозяевами дома.
Строители Здания
Время для художественных работ еще не настало. Только два художника - Хайнц Митчер из Кёльна и Освальд Дубах, русский швейцарец, помогали доктору Штейнеру разрабатывать пластические мотивы для наружной отделки Здания. Похожий на великана швейцарский юноша Поль Бэй рассчитывал для столяров профили, по которым в будущем склеивались архитравы из прочных деревянных досок примерно шестисантиметровой толщины. Тадеуш Рихтер, обходившийся без шляпы и пальто, перемещался взад и вперед между Дорнахом, Парижем, Силезией и Берлином, подготавливая порученную ему будущую работу надоконными стеклами. Ходило много анекдотов о его смешной манере ругаться по-польски. Предполагалось, что я ему буду помогать. До того мы должны были с моей сестрой, которая вместе с Поццо вскоре приехала ко мне в Дорнах, калькировать и раскрашивать строительные планы в архитектурном бюро (впоследствии "Дом Ханси").
Несколько архитекторов работали и дискутировали в слишком тесном для них помещении верхнего этажа. Сюда нередко заглядывал главный архитектор Шмид-Куртиус, человек с мечтательным взглядом, с трудом выносящий величие своей задачи. Молодой вспыльчивый крестьянин, миролюбивый Мозер из Штутгарта, Эрнст Айзенпрайс, еще совсем молодой, - вот о ком я вспоминаю. Позже к ним прибавились Герман Ранценбергер и инженер Энглерт: они держались как правило в стороне от архитекторов, но постоянно были окружены другими строителями; затем господин Кобер со своей женой, которые уже давно жили в Арлесгейме; Ледебур - голландец, помогающий Тадеушу Рихтеру; Зеефельд, кому поручили рассчитываться с рабочими; пожилой Лидфогель, заведующий столярной мастерской; я думаю, там уже был и Кригер. Несколько позднее появилась в роли секретарши маленькая язвительная фрейлейн Хове из Прибалтики. Таков был почти весь тогдашний состав строителей. - У архитекторов я никогда не встречала доктора Штейнера, но вряд ли он не был осведомлен о том, что происходило в бюро. Например, однажды архитекторы развесили пять-шесть набросков в натуральную величину для предложенного им оконного триптиха. Он выбрал набросок Мозера и кое-что в нем поправил.
Бугаев был приставлен к господину Зеефельду в качестве помощника при расчете жалования рабочим. Для сына математика, который сам однако был поэтом-символистом, числа представлялись чем-то мистическим и вызывающим почтение. Они всегда до крайности возбуждали его, и я видела, как лукаво улыбался господин Зеефельд при разговоре о их совместной работе. Она продолжалась также не долго.
В марте мы опять последовали за доктором Штейнером - на лекции в Мюнхен и Вену. Хотя их темы не были непосредственно связаны со Зданием, тем не менее Здание и его миссия предстали в этих лекциях в еще более ярком свете. Но в словах Рудольфа Штейнера прозвучало пугающее предостережение: "Если нам будет дозволено завершить его..." - Разве это было под вопросом? - От впечатлений, полученных в Вене, осталось грустное настроение, - как от обреченной, преходящей красоты.
По возвращении мы встретились с новым обликом Дорнаха. На лугах, освобожденных от снега - цветущие вишни! Если идти к северу от территории Здания через небольшой ручей, разделяющий два кантона - Золотурн и Базельланд, то "дощатый путь" вел вверх по лугу к дому, где госпожа Дубах-Маликова за один франк готовила простой, но хороший обед. Помимо уже названных художников Хайнца Митчера и Освальда Дубаха приехали еще новые строители. Это были: Ханс Штраус - красивая, энергичная голова с детским открытым взглядом; тонкая блондинка - его жена и ее более полная сестра (они должны были вырезать одну и ту же каплевидную форму в большом куполе - справа и слева; одна оказалась стройной, а другая - широкой, но доктор Штейнер одобрил обе. Конечно, все это произошло позднее).
Вместе с госпожой Дубах-Маликовой приехала ее сестра госпожа Ильина, которая впоследствии занималась записью лекций совместно с госпожой Финк. Благодаря их теплой человечности дом этот стал центром притяжения для многих русских.
За обеденным столом мы встречали еще веселого и любезного Вольфхюгеля - впоследствии, как и Штраус, вальдорфского педагога; старомодно вежливых К. X. Розенберга и В. фон Гейдебранда; поэта Людвига (вскоре он погиб на войне); русского немца Карла Кемпера и скульптора Маню Катчер. Скульптор-англичанка Эдит Марион здесь не бывала. Из этой группы образовалось что-то вроде центра, руководящего резьбой по дереву. Сосчитать помощников было вряд ли возможно; кроме того они часто менялись.
Доктор Штейнер за резьбой по дереву
На следующее утро можно было наблюдать не раз описанную сцену, когда доктор Штейнер в первый раз занимался резьбой по дереву на капителях и показывал нам, как мы должны это делать. Капители большого и малого купола были установлены в бетонированных помещениях на востоке под будущим пространством кулис. Отполированные столярами поверхности ограничивали среднюю, еще не обработанную плоскость семиугольной капители. Каждая часть имела цвет соответствующего ей дерева: светло-зеленый бук, золотистый ясень, красновато-коричневое вишневое дерево. Дуб и вяз были еще темнее, затем шли более светлые клен и груша. Каждое дерево обладало собственным запахом, все породы отличались на ощупь; позднее мы также научились действовать тяжелым резцом в случае различных структур по-разному.
Только на следующий день, когда мы сами с инструментами стояли за работой, нас поразила выдержка доктора Штейнера. Мы были вынуждены каждые полчаса делать паузи, пальцы у нас были изранены, все шло так, как будто в дерево вгрызалась мышь. Но он стоял на своем ящике часами, спокойно и ритмично ударяя по стамеске, лишь время от времени бросая быстрые взгляды на небольшую гипсовую модель. Целиком уйдя в работу, он словно вел диалог с деревом или вслушивался в происходящее, - и форма все сильнее выступала из древесной массы, как бы освобождаясь от оболочки.
Мы, русские, едва говорившие по-немецки, казались, скорее, помехой среди множества желающих работать. Таких собралась уже целая толпа, - больше, чем было места и инструментов. Меня вытесняла маленькая, но очень энергичная пожилая дама. "Но ведь есть еще рабочие места у архитравов, - объявил доктор Штейнер, - а кто чувствует к этому призвание, пускай идет за мной в столярную". И, призванные или нет, мы вчетвером - моя сестра, Поццо, Бугаев и я - последовали за ним через временный дощатый мост, который вел из Здания прямо в столярную. Там ожидали перемещения в Здание уже готовые колонны пятиугольной формы. Душистое дерево с гладко обработанной поверхностью чудесно мерцало. Колонны были разной величины и склеены из различных древесных пород в соответствии с капителями.
Формы готовых для обработки архитравов, склеенных из грубо обтесанных досок толщиной примерно в 7 см, производили фантастическое впечатление. Громоздились отдельные части гигантской арки просцениума - в 3- 4 метра ширины и высоты. В столярной нас встретила скульптор Маня Катчер. В коричневом кафтане, брюках и сапогах,- вид для того времени весьма странный, -с гривой темных кудрей, с длинной деревянной пикой в руке- ока была наготове для решения той задачи, которую себе поставила. Группа итальянских рабочих должна была топором стесывать с архитравов излишки дерева, следуя ее пометкам углем. Нам ничего не оставалось делать дальше, как начисто обрабатывать обтесанные поверхности с помощью стамесок.
Уже через несколько дней я заметила, что вокруг курсирует Хайнц Митчер, все внимательнее присматриваясь к нам; наконец он приблизился ко мне, чтобы сказать, что итальянские рабочие испортили формы архитравов и хорошо, если бы художники взяли на себя изготовление форм с самого начала. Поэтому он написал на толстой доске прошение, адресованное доктору Штейнеру; не хотим ли мы тоже его подписать? Хотя Маня Катчер нас огорчала, мы его подписали, и вскоре работа приняла другой характер. Нас разделили на небольшие группы, и под руководством тех, кто несколько лучше в этом разбирался, мы учились вымерять в масштабе 1:20 гипсовую модель и переносить результат на нашу работу. Только один человек не подчинился общему порядку - молодой русский караим из Крыма, будущий египтолог. Наполовину зарывшись в груду щепок, он лежал под своим архитравом и озлобленно вырубал топором растущую дыру, сам все глубже и глубже погружаясь в щепки. Мы окружили его, однако все наши увещания оставались безрезультатными. Пришлось позвать доктора Штейнера, которому постепенно удалось извлечь юношу из его логова. - Нашей группе достался архитрав Сатурна, - его первым должны были доставить в Здание.
Между тем на бетонный фундамент уложили еще не обработанные цоколи. Колонны переносились по воздуху с помощью рундшины и устанавливались на соответствующие цоколи; к колоннам прилаживались капители. Поэтому с архитравом Сатурна
нельзя было терять времени, и несколько раз мы работали до двенадцати часов ночи. Теперь мы получили более совершенные инструменты и более тяжелые деревянные колотушки, - однако нужно было приложить силу, чтобы поднять такую колотушку. Пока я научилась использовать отдачу стамески, правая рука болезненно опухла, суставы воспалились. Особенно твердым было отливающее зеленью дерево бука; но было приятно обрабатывать большие податливые своды архитрава и наблюдать, как рядом с нами работает доктор Штейнер. На своде средней формы с правой стороны он выдолбил с краю полость, неожиданно закруглив ее вглубь. "Это как в случае плеча- сказал он, - в своде еще один свод. В вогнутостях надо воспринимать тепло, любовь". Мы учились придавать выпуклым поверхностям по возможности плоский вид. Округлые формы он называл "астральным жиром". Учитывая это, Ян Стутен придал своей капители почти геометрическую форму, что вызвало самую высокую похвалу доктора Штейнера. Надо резать от поверхности к краю, а не наоборот; надо края определять поверхностью и ожидать их с любопытством.
Работа продвигалась лихорадочно. Теперь надо было заниматься архитравом Марса, дело дошло уже до этого. Когда однажды утром мы поздно - после ночной работы - пришли в столярную, наш архитрав уже унесли. "Доктор Штейнер долго вас ждал", - сказали нам. Так мы были подняты в ранг настоящих строителей...
Прочие строители
Помощники в деле строительства Здания собрались в Дорнах со всех частей света. Это было пестрое, разноликое, многоязычное общество.
Из Москвы приехал друг Бугаева молодой Сизов с доктором Костичевой. Эта удачливая женщина-врач оставила свою
профессию и все свои силы посвятила работе при Здании. Часами она стояла возле точильной машины, приводя в порядок наши затупившиеся стамески. В Дорнахе устроилась и другая женщина-врач - доктор Фридкина. По совету доктора Штейнера она немного заботилась о нашем здоровье.
Из Италии на своем велосипеде приехал еще один русский - Р. Лидский. По его словам, самым трудным во время путешествия для него было объезжать улиток, после дождя плотным слоем покрывавших улицы. Он был готов к любой работе и в кантине был принят в компанию стола "сильных мужчин", состоящую по большей части из резчиков по дереву; ее возглавляли Хайнц Митчер и инженер Энглерт. Кантона - столовая - была устроена на лугу в светлом и приветливом деревянном бараке, на месте ньшешних кафе и столовой. Летом мы сидели снаружи - на деревянных скамейках за примитивными столами. После трапезы отдыхали, лежа на траве; поблизости не было ни домов, ни улиц.
Наша группа резчиков выросла примерно до 70 человек, не считая тех, кто лишь ненадолго приезжал в гости. Всякий, кто оказывался в Дорнахе, хотел стесать для Здания хотя бы несколько щепок. Также можно было встретить дам в фиолетовом, которые сосредоточенно колдовали над тончайшим орнаментом на поверхностях; чтобы рисунок сделался заметным, вначале убирали с этих поверхностей более 20 см древесины. Им предоставлялась свобода действий, поскольку в первую очередь они нуждались в разговорах, которые за работой вели между собой.
Всей финансовой частью ведала фрейлейн Штинде. Нуждающихся она обеспечивала скромной, но покрывающей все потребности денежной суммой. (К счастью, первые три года я могла отказаться от нее.) Ей помогали графиня Гамильтон и фрейлейн Кнетч.
В качестве противовеса к "сильным мужчинам", работающим упорно и быстро (к ним принадлежали Карл Кемпер и В. фон Гейдебранд, - скорее, хилые), образовались группы женщин, которые тоже были превосходными резчиками. В них входили прежде всего такие дамы как Кучерова, Гюнтер, Хольцлейтнер и Друшке.
Здесь, в Дорнахе, всех объединял совершенно новый, свободный образ жизни. Каждый трудился так, как считал нужным, ибо мы сплошь были дилетантами; но и специальные знания не годились для выполнения здешних заданий. Порядок в этот хаос вносило лишь сознание того, что участвуешь в великом деле будущего, да помощь советом от доктора Штейнера. Все же это было чудом - то, что работа продвигалась вперед при отсутствии какой бы то ни было организации. После тяжелого трудового дня молодежь до поздней ночи с пением гуляла по окрестностям, - зачастую по весьма ценной луговой траве к величайшему возмущению крестьян.
Госпожа Киселева устроила занятия эвритмией в верхнем помещении гостиницы "Юра", - как сказал доктор Штейнер, "для детей и молодых людей до 70 лет". Наблюдая, как ученики двигались в такт или трехчастным шагом, можно было проводить интереснейшие психологические исследования.
Вскоре нас, молодежь, привлекли к более интенсивному изучению эвритмии. Госпожа Киселева была вдохновенным преподавателем, пламенно преданным новому искусству эвритмии.
В этих воспоминаниях кое-кто из друзей остался неназванным; кое-кого из участников следует упомянуть, чтобы дополнить картину жизни на дорнахском холме. Бросалась в глаза своими туалетами Элла Дюбанюк, которая при этом была скромна и приветлива. "Она серьезная кокетка", - так охарактеризовал ее однажды доктор Штейнер. Затем были еще музыкант Ян Стутен, Макс Шурман с женой и Леопольд ван дер Пальс с женой и дочкой; муж и жена Нойшеллер, граф Польцер с двумя своими мальчиками, очень энергичная фрейлейн Эльрам из Прибалтики, фрейлейн Штолле, тихая и скромная; затем две девушки, мужественно взявшие свою судьбу в собственные руки, - и прежде всего- Рудольф Штейнер, которого встречали повсюду: в дождь - в высоких сапогах, в жаркие дни - в сандалиях; поверх сюртука - белая рабочая блуза. Быстро проходя мимо, он дружески
приветствовал встречного; в руках блокнот и лепная модель Здания. Часто его видели вместе с фрейлейн фон Сиверс они поднимались на холм или спускались с него. Изредка он шел один. Тогда кто-нибудь робко стоял на дорожной обочине, ожидая его со своей просьбой, пока он приблизится; иногда же, подобно диким индейцам, вокруг него прыгала группа детей.
По нашей просьбе свою первую лекцию доктор Штейнер устроил в столярной. Для пожилых дам были поставлены кресла и шезлонги; мы, все остальные, расположились, сидя на корточках, на машинах и досках и вслушивались в его слова о новых художественных импульсах, которым хотели послужить наши руки. Его тогдашние речи хорошо доходили до чувства,- в особенности благодаря тому, что произносились они в столь естественной обстановке; быть может, тогда там присутствовал и другой способ понимания. Позднее, спустя десятки лет, вспоминалось все вновь и вновь, как трудно было заслужить эти лекции, из которых можно было постоянно черпать нечто новое.
Странное чувство охватывало иногда на этом холме. Все было таким новым, молодым, устремленным в далекое будущее, - и однако неожиданно попадались уголки, выглядевшие такими знакомыми, словно старые друзья и родственники: вот балки
лесов, рядом лестница-стремянка, груда мешков с песком, тачка,
яма с известью и при ней черпак... Где я это уже видела? Казалось, что в современности отразились картины ушедших времен, отделенные от нас тонким воздушным слоем... Или то был занавес, который стоило лишь слегка отодвинуть в сторону, чтобы обнаружились совершенно иные картины? - Величественные, благородные постройки древних, незапамятных времен! - Участвуя в этом великом деле, мы не в первый раз собирались здесь.
А в ночных сновидениях делалась понятнее та или иная картина.
Модель
Драгоценное семя будущего цветущего растения - модель Здания, стоявшая в Бродбекхаусе. Если проскользнугь внутрь, под купол модели, то здесь дышится совсем другим воздухом; так бывает, когда стоишь перед величайшими произведениями искусства прошлого, а иногда во время слушания музыки. Все было гармоничным - уравновешенной и при этом подвижной жизнью, - жизнью, которая одновременно есть выражение души и духа, язык жестов. Когда там работал доктор Штейнер, в другом купольном пространстве находилась Мария фон Сиверс. И в уравновешенности форм и пропорций обоих купольных пространств можно было уловить отражение ее одухотворенной красоты, присущей лишь искусству греков.
"И Здание становится человеком", - написал доктор Штейнер под южным розовым оконным узором.
Рабочие секции при Здании. Препятствие
Наряду с резьбой по дереву развивались и другие рабочие секции. Быстро рос весьма красивый по своим пропорциям "стекольный дом". Были доставлены цветные стекла. Работа с оконными стеклами была поручена Тадеушу Рихтеру, который пригласил к сотрудничеству с ним господина и госпожу Сидлецких. В обустройстве ему помог господин Ледебур. Позже к ним присоединились художник Вало фон Май, известный своими иллюстрациями, молодая художница фрейлейн фон Орт и К. Лидский.
Для трех уравновешивающих круговых подставок к перилам западной лестницы и двух лестничных столбов разной длины ("рахитичные слоновьи ноги"-так их назвал однажды некий злобный критик), спроектированных скульптором Хельферихом, а также для изображения саламандр на калорифере были подготовлены под руководством Эдит Марион по моделям Рудольфа Штейнера глиняные формы, которые впоследствии следовало отливать из бетона. Глину приходилось доставать из почвы; в дождливую погоду наша обувь и длинная одежда были все в глине.
Группа архитекторов переместилась в специально для них выстроенный барак напротив южного входа в Здание, а дом, где они раньше работали, был отремонтирован для доктора Штейнера и фрейлейн фон Сиверс. "С разрешения" маленького Ханси Гросхайнца доктор Штейнер назвал этот дом "Домом Ханси". С ними жила Миета Валлер, с которой оба подружились. Благодаря своей несколько небрежной манере, она привносила свободное художественное начало во все, в чем они участвовали, - в резьбу по дереву, в рисование и эвритмию.
В крошечном бараке рядом с нашей кантиной господин и госпожа Шмидель устроили свою временную лабораторию. Здесь изготавливались растительные краски для росписи обоих куполов, - согласно указаниям доктора Штейнера и по проверенным им старым рецептам. (Спустя несколько лет один художник как-то попытался использовать подобный рецепт, для которого требовалась морская вода. Но его постигла неудача. "Эту воду Вы набрали около берега, но Вам следовало бы отплыть в открытое море", - сказал ему доктор Штейнер. И действительно, краски при этом получились на славу.)
Наверху холма в одном из помещений барака для архитекторов за столом сидело несколько пожилых или менее крепких дам, которые не могли заниматься резьбой. С помощью стеклянного пестика они часами кругообразно растирали на стеклянной пластинке крошечные количества порошкообразной краски. Чем дольше они растирали, тем красивее должны были оказаться цвета. И они действительно оказывались красивыми - благородных, спокойных оттенков, без малейшей едучей примеси. Долго шли поиски подходящей грунтовки под живопись. Этим занималась художница Хильде Хамбургер.
Постепенно образовалась особая группа художников, намеревающихся расписывать большой купол. Из Мюнхена приехал известный художник Герман Линде, спокойный, скромный человек, принадлежащий к поколению рубежа веков, не затронутому модернизмом. Он расписывал декорации для постановок мюнхенских мистерий, однако здесь ему предстояли большие трудности при разработке набросков Рудольфа Штейнера. Просто копировать стиль живописи доктора Штейнера он не мог, зная, что здесь от него ждут чего-то совсем другого. - Из Австрии приехала фрейлейн Шнейдер, которая взяла на себя мотив "персидской культуры"; прибыли также супруги Поллак. Он, нежный и худощавый, рисовал красивых Ангелов, которые однако были столь утонченно-прозрачными, что их едва можно было рассмотреть. Его жена, мощная и темпераментная женщина, придумывала фантастических зверей для "Атлантиды" и "Лемурии"- двух больших композиций в северной и южной часта купола. Эти своеобразные изображения, - скорее цветные рисунки, чем живопись, - создавали впечатление, что ее стиль лучше бы подходил для вышивания. Впоследствии она действительно выполнила несколько оригинальнейших вышивок. Рядом с Поллаками над порученным ей мотивом "индийского посвящения" работала французская художница Лотус Пераньте. Она была интересным, своеобразным существом - похожая на бедуинку, темпераментная и одаренная. Чем нежнее были краски Поллака, тем гуще она накладывала их на холст в своей композиции.
Доктор Штейнер без устали посещал отдельные мастерские художников в бетонных помещениях восточной части Здания. После таких бесед каждый из них приходил к глубочайшему убеждению, что он - единственный, кто понимает господина доктора и работает в его ключе. Задача художников заключалась в том, чтобы указания оккультиста выразить на языке искусства. "То, что верно с художественной точки зрения, верно и в оккультном отношении", - говорил им доктор Штейнер.
Им вовсе не следовало отказываться от присущего каждому своеобразия. Мы, резчики по дереву, были народ молодой и знали, что нам следует еще многому научиться от него, но художники не хотели слушать нас, и доктор Штейнер предоставлял всем свободу. Лишь однажды он отобрал у художника порученное ему задание. Этот художник беззаботно внес толстым грифелем свои пометки в эскиз египетской темы, сделанный доктором Штейнером.
Немного позже образовалась вторая группа художников - для малого купола. Кроме двух художников, которые уже сделали себе имя (это были барон Розенкранц - датчанин, принадлежащий, однако, к английскому направлению, и русская Маргарита Волошина), все прочие были начинающими художниками. Сюда относились очень одаренная Миета Валлер, Луиз Клазон, которая впоследствии на протяжении многих лет была связана с эвритмическими группами, голландка фрейлейн Бруньер и полька Элла Дюбанюк. В группу художников также входили Имме фон Эккарштейн и поэт Волошин: с великим усердием он помогал фрейлейн Вандрей в разработке мотива из стихотворения Гёте "Тайны", - мотива, который был предназначен доктором Штейнером для занавеса, служащего при спектаклях-мистериях. Для этого господин Волошин всегда надевал необыкновенно красивую шелковую блузу. - С началом войны эта работа приостановилась. Позднее данный мотив был использован Вильямом Скотт-Пайлом для занавеса сцены второго Гётеанума.
Работа над Зданием двигалась с лихорадочной быстротой. Нельзя было терять ни мгновения. В полумраке лесов обоих купольных помещений стояли ряды колонн с капителями и архитравами, над ними нависали своды двух внутренних куполов. Теперь готовили дерево для пластических форм наружной стены. И здесь возникло препятствие. Согласно указаниям доктора Штейнера, колонны и архитравы были склеены из массивных бревен благородных древесных пород. Никаких полостей там возникнуть не могло, однако при возведении наружных стен из так называемых "практических соображений" этим указаниям не последовали, и при обработке форм стамески проходили сквозь слишком тонкие стены. Поэтому доктор Штейнер распорядился все сломать и заменить стеной из целого дерева.
Ответственный архитектор вскоре после этого уехал из Дорнаха, и его место заняли молодой архитектор Айзенпрайс и инженер Энглерт, который до того участвовал в расчетах базельского инженерного бюро и помогал при закупке материалов.
Тяжелее значительной потери денег оказалась в данном случае потеря времени. Еще прежде мы задавались вопросом, будет ли все готово к августу. Теперь мы уже не спрашивали об этом; однако вопрос этот, не будучи высказанным, висел над нами, как туча; наши опасения подтверждались озабоченным взглядом доктора Штейнера и его утратившей свою обычную окрыленность походкой. Начали действовать и другие силы, отнюдь не помогающие продвигаться вперед. Но работа продолжалась, - только с еще большей интенсивностью.
В стекольном доме
Этим летом была достроена стекольная мастерская. К лекции по поводу ее открытия я набрала отпиленных веток вишневых деревьев, которые лежали вокруг на территории здания. Мы втыкали их в щели между балками новой мастерской и принесли туда все цветы, которые только удалось найти. Доктор Штейнер был видимо обрадован нашими попытками празднично украсить помещение и сказал, что это надо взять на заметку для будущего. (Впоследствии при всех торжествах в столярной использовались еловые ветки.) Его лекция звучала углубленно и предостерегающе, под аккомпанемент внезапно разразившейся грозы. Я никогда не видела таких разноцветных молний, как тогда. Белые занавески на больших окнах освещались светло-голубым, розовым, зеленым и фиолетовым светом, - как бы намекая на будущие оконные стекла. - Однако этим замыслам будет не легко осуществиться, мы не доросли до стоящей перед нами задачи; это чувствовалось из лекции.
Стекольный дом был готов, но никто не знал, как работать со стеклом. После нескольких неудачных попыток, - пытались даже класть стекло в воду, - послушались совета зубного врача доктора Гросхайнца - достать что-то вроде зубоврачебного инструмента, - конечно, совершенно других размеров. Дела двигались быстро, когда за ними стоял доктор Штейнер. Вскоре для этого был смонтирован первый механизм с электромотором, гибким валом и американскими карборундовыми камнями, которые в это время появились в продаже(3).
Пфорцгеим и Норчёпинг
В пылу работы мы отказались от поездки в Париж, где доктор Штейнер читал лекции. Однако мы совершили небольшое путешествие в Пфорцгейм поездом, идущим с малой скоростью через Шварцвальд, - и вновь это стало откровением, как однажды в Христиании. Слова доктора Штейнера в убогом помещении кофейни звучали так, что надо было задерживать дыхание, чтобы не помешать вызываемому ими переживанию. Мы ведь были лишь как бы глухими и слепыми свидетелями события, которое разрешалось воспринимать в ощущении.
В середине лета состоялась поездка в Норчёпинг на лекции доктора Штейнера. Фрейлейн фон Сиверс пригласила нас ехать вместе с ними. В красивых старомодных помещениях шведского сельского дома мы следили за дальнейшим развитием темы, началом которой было Пятое Евангелие, и еще глубже погружались в своих переживаниях в духовное течение, идущее из незапамятных времен и обретшее новую жизнь. После таких переживаний задача, связанная со Зданием, вставала перед каждым из нас во всем своем безмерном величии.
На обратном пути мы задержались на острове Рюгене. На крутых белых скалах из известняка над фиолетовым морем возвышался земляной вал, окружающий зеленый луг- место древних мистерий. У одних здешних хозяев мы видели потемневшее изображение, по-видимому, инспиратора этого места по имени Свантевит. (Славянин ли, уроженец ли Запада, он со своим рогом изобилия выглядел хищным монголом.) Дрожь охватывала на бушующем ветру, который швырял на скалы фиолетовые валы. Белая пена собиралась в буйно движущиеся формы, напоминающие северный орнамент. Госпожа Волошина, которая была с нами, хотела остаться здесь на несколько дней, но меня охватила тревога и я торопила с отъездом в Дорнах.
Поездка по Германии была кошмаром: как будто весь мир трещал по швам. Я еще никогда не видела такого затравленного народа.
Вернувшись в состоянии изнеможения домой, я отдохнула несколько часов и проснулась с таким чувством, будто небо заколочено досками и больше никогда к нам оттуда не будет, как раньше, сходить свет; это чувство держалось годами. Между тем даже сияющие прежде золотом купола Здания были покрыты черным кровельным картоном. Это было время после убийства австрийского эрцгерцога - события, повлекшего за собой дальнейшие катастрофы.
Какое-то тяжкое бремя легло на Дорнах. То, что несколькими месяцами раньше, несмотря на всевозможные предчувствия, представлялось чистым безумием, то, что просто не могло наступить, - европейская война, - теперь стояло при дверях и казалось неотвратимым. И что можно было противопоставить этому? И однако, быть может, в это время мы упустили свое задание. Часто видели, как доктор Штейнер переходил от одного из нас к другому с простыми словами: "Ведь дело идет к войне... Будет страшно!" Он словно ждал чего-то, и при этом на него едва можно было смотреть. "Да, господин доктор, кажется, дело идет к войне". И тогда он уходил, словно в разочаровании. "Только сорок человек хотели ее, - сказал он, когда война разразилась, - и слишком мало было тех, кто ее не хотел".
В третий раз для меня и в последний раз в жизни Общества в Базеле, в старом доме на Хойваге, состоялось такое же собрание, как в Норчёпинге. Здесь, в магическом своеобразии этой встречи, вновь отдаленное прошлое соединилось с будущим. Там присутствовали удивительные люди. Но что я знала о них? И разве доктор Штейнер не сказал, что даже если бы там присутствовали одни стулья, он был бы обязан говорить. И мы ведь тоже не были чем-то большим по сравнению с этими стульями... Однако в тот раз я несколько яснее восприняла произнесенное с великолепным драматизмом слово. Из-за войны подобные встречи не повторялись, однако впоследствии в дорнахских лекциях я узнавала кое-что из того, что здесь было представлено в таком концентрированном виде.
Намеченное на август заседание было отменено.
Военные годы в Дорнохе
В первые дни войны доктор Штейнер был подавленным, потрясенным. Присутствие возле него в это время угнетало, - мы видели страдание в его взгляде. Он переживал все гораздо интенсивнее, чем мы, но переносил это по-другому. В тот период мы реже приходили повидаться с ним. Он часто ездил в Германию с фрейлейн фон Сиверс и Миетой Валлер. Иногда мы
спрашивали себя, увидим ли мы его когда-нибудь еще. В каком-то озлоблении работали мы под горячим сентябрьским солнцем, раскачиваясь на легких лесах возле форм над окнами на внешней стене здания, установленной заново. Царило теплое прощальное настроение, многих друзей призвали, и они должны были уехать. Одним из первых был Хайнц Митчер; вскоре разнесся слух о его смерти. Один за другим уходили на войну "сильные мужчины". Каждый должен был проститься с другом, с которым здесь он делал общее дело, чтобы воевать с ним как с врагом.
Это продолжалось недолго, и наряду с чувством сплоченности, усиленным войной, порой возникали также диссонансы взаимного непонимания. Ведь каждый мнил, что его народ самый лучший. Немцы считали, что правы только они; для русских все правительства были одинаково дурными; у французов пробудились воспоминания о "Revanche", - англичане же, казалось, взирали свысока на всех остальных.
Под действием непонимания, с которым нередко встречали Бугаева, в нем ожила и стала расти тоска по России. Как смеют обвинять в шовинизме меня, русского, из страны Соловьева и Достоевского?! Ему были нужны такие сцена и аудитория, которые дорнахские "тетки" ему предоставить не могли. Самым невинным образом они стремились поучать его. В качестве реакции последовали действительно шовинистические высказывания.
Доктор Штейнер старался указать нам в лекциях на те силы, которые стоят за историческими событиями; но страсти уже разыгрались. И он был вынужден надолго отказаться от этих тем. Проблемы не были решены и тогда, когда эмоции постепенно улеглись.
7 октября 1914 года мягким осенним днем мы сидели возле кантины и наблюдали, как большая повозка с мебелью, покачиваясь, поднималась по Герцентальштрассе. Неподалеку от распятия, стоящего на повороте, она внезапно перевернулась. Дело уже шло к вечеру; чтобы поднять повозку, нужно было ждать до
утра. Перед лекцией и после нее видели, как доктор Штейнер озабоченно разговаривал с садовником Фаиссом и его женой. Тяжкое горе нависло над ними в тот вечер. Тео, старший сынишка Фаиссов, общий любимец, все еще не возвращался домой. Живой и разумный ребенок причинял беспокойство своим родителям: он любил наблюдать за животными, рассматривать цветы. Ночью доктор Штейнер настоял на том, чтобы подняли перевернутую повозку: мальчик лежал под ней.
С наступлением осенних холодов работа продвигалась медленнее, но тем не менее не прекращалась. Впервые мы увидели снизу освобожденный от лесов большой зал с куполом, поддерживаемым колоннами и архитравами. Наша группа резчиков по дереву по причине призывов в армию уже наполовину растаяла. Но из-за приезда зрителей число собравшихся выросло почти на сто человек. Доктор Штейнер вносил коррективы в работу, ведущуюся слишком быстро и с малым умением. Нас очень тревожило то, что правая и левая стороны архитрава получились не совсем одинаковыми, но доктора Штейнера это смущало меньше всего. Я приведу здесь лишь то, что он говорил во время бесед и что не вошло в его заметки к корректурам "Дорнахского Здания как символа импульсов художественного развития". "Всюду, где только присутствует жизнь, налицо различие между правой и левой сторонами, - говорил он. - Посмотрите на нос доктора Унтера - правильный нос: видите, какой он асимметричный? Собственно говоря, человеку следовало бы иметь два носа, как у него есть два глаза. Между левой и правой сторонами по оси симметрии возникает некое движение, как бы круговорот; лучше всего вы это можете увидеть на волосах ребенка, мальчика. У мальчика вихор волос отчетливо проходит через ось головы". Затем мы услышали о "двояко изогнутой поверхности", которую душа привносит в формы. Вначале он пытался продемонстрировать ее нам с помощью своего зонта, но зонт не давал себя согнуть. Тогда в это поверить должна была его шляпа, которую он безжалостно комкал. Он вытягивал ее наподобие
колбасы, затем сгибал с двух сторон вовнутрь, так что внутри образовывалась некая вогнутая форма. Затем он осторожно продвигал одну руку внутрь, а другую перемещал наружу, благодаря чему вогнутость делалась открытой, плоской. "Похожую поверхность вы можете нащупать в области виска". Также он показывал изгиб поверхностей с помощью движения больших пальцев.
Дня наших работ под капителями был пристроен специальный настил, "промежуточный пол". Так возникло чудесное помещение, в котором мы на протяжении зимы продолжали разрабатывать наши формы, насколько это нам позволяли художественные способности. В центре была установлена модель Здания из Бродбекхауса. Ее левая часть, в которой не было форм, спроектированных доктором Штейнером, была отпилена. Мы привыкли без головокружения работать на лесах, раскачивающихся в воздухе на большой высоте, выступая напротив архитрава за край настила.
Группа английских друзей намекнула на то, что осенью им был обещан цикл лекций и они ждут его. И доктор Штейнер прочел цикл 'Оккультное чтение и слушание". Но при этом он подчеркнул, что тем самым он хотел сдержать свое обещание и что подобные темы во взбудораженной войной атмосфере не могут обсуждаться так, как это предполагалось.
"Почему Вы не работаете в стекольном доме?" - несколько раз останавливал меня на улице доктор Штейнер. Но я неоднократно наблюдала, как из-за неосторожного обращения с занавесками и водной струей цветная стеклянная пластинка на солнце разлеталась на куски. Хотя доктор Штейнер выразился так, что "Ариман сказал мне, что он перебьет еще больше стекол", - однако Ариман также омрачал отношения между людьми в стекольном доме. Поэтому я чувствовала себя там неуютно и ответила уклончиво: "Мне нравится больше резьба по дереву".
Однажды, несмотря на мое сопротивление, Рихтер привел меня в стекольный дом; меня поставили перед голубым стеклом на подвижный мост только что налаженного аппарата с мотором и
орошающим устройством. К счастью, под вращающимся карборундовым диском было видно, как свет проникает сквозь стекло. Однако вскоре раздался страшный крик: передо мной в сильнейшем возбуждении появилась работница, которая вырвала у меня из рук инструмент. "Вы ведь тоже не позволили бы всякому пользоваться вашим скакуном!" - кричала она. Я покорно удалилась оттуда.
Постоянные конфликты в стекольном доме прекратились с призывом в армию Тадеуша Рихтера. Я ощущала себя слишком молодой для того, чтобы взять на себя его функции, что подтвердил и доктор Штейнер. "Вы также не смогли бы нести солдатский рюкзак в 40 фунтов", - сказал он. Руководство работами в стекольном доме взяли на себя супруги Сидлецкие.
Год 1915-й
Рождество 1914 года, как и во все последующие годы, мы проводили вместе с доктором Штейнером в столярной, где на сцене помещалась большая зажженная рождественская елка. Часть столярной была освобождена под сцену. Госпожа Киселева подготовила для рождественского праздника наше первое небольшое эвритмическое представление. Ян Стутен разучил для него несколько русских церковных рождественских песнопений. Пели Маликов, Лидский, Дубах и Кемпер. Пение это было не намного гармоничнее того, с которым в России на Рождество деревенские парни ходили из дома в дом ради нескольких копеек. Эвритмически представляя гласные звуки, мы одновременно расхаживали по кругу в такт мелодии вслед за изображением звезды, принесенным одной из девушек - Агнес Линде. Для нас это было трудной задачей, и мы очень боялись; у меня было такое впечатление, что доктора Штейнера это не слишком воодушевило.
Незадолго до Рождества мы переехали в Дорнах, на первый этаж славного старого домика, принадлежащего приветливой госпоже Томанн. Фруктовый сад с большим вишневым деревом сразу переходил в окружающий его луг, а наш домик глядел на садовую калитку "Дома Ханси", и часто можно было видеть, как в нее выходит и входит доктор Штейнер. - Однажды во время сильной простуды мне приснилась ночью снежная метель и русский свадебный поезд с колокольцами на санях и с разукрашенными лентами лошадьми. Что бы это означало? На следующий день Бугаев внезапно уехал в Базель, чтобы купить для фрейлейн фон Сиверс великолепный букет чайных роз. Когда мы передавали розы, госпожа Штейнер нам едва поверила, что мы ничего не знали о ее бракосочетании с Рудольфом Штейнером, состоявшемся в этот день. Но для всех это тоже стало неожиданностью. Вскоре вслед за тем нас пригласили в Дом Ханси, и Бугаев в смущении путался: "фрейлейн"... "фрау"... "фрейлейн фон Штейнер!" - вырвалось у него внезапно к общему веселью... С другими также происходило подобное несчастье. Привычка называть госпожу Штейнер "фрейлейн фон Сиверс" удерживалась и впредь, возможно, иногда сопутствуемая неким легким ударением, - пока доктор Штейнер не пригласил к себе всех своих старых сотрудников и не представил каждому в отдельности свою жену - госпожу Штейнер. С того момента никто такой ошибки не делал.
Отныне госпожа Штейнер больше не могла участвовать в Центральном совете. "Почему Вы недовольны этим? - спросил меня доктор Штейнер. - У нее будет гораздо больше времени для художественной работы". В самом деле, она все больше брала на себя заботу об эвритмии.
Эвритмия и сцены из "Фауста"
Однажды госпожа Штейнер рецитировала "Сказку о чудесном источнике" и попробовала сопровождать рецитацию эвритмическими жестами, но это не удовлетворило ее. В другой раз она, кажется, произносила со сцены роль Марии ("Врата посвящения", картина "Девахан"). Госпожа Киселева представила эвритмически одну за другой три душевных силы, речь которых рецитировали Кэте Митчер и Луиз Клазон. Госпожа Богоявленская, также стоя на трибуне, меняла им цветные покрывала. Но вскоре эти роли были поделены между тремя эвритмистками.
Во время поездок в Германию госпожа Штейнер работала в Берлине и Штутгарте с тамошними преуспевающими эвритмистками. Мы в Дорнахе должны были еще долго заниматься упражнениями: мы прорабатывали трех-, четырех-, пяти-, шести- и восьмистрочные стихотворения, используя те строгие геометрические формы, которые давал для этого доктор Штейнер. Госпожа Штейнер выбирала для нас по преимуществу несложные лирические стихи. Нам дозволялось двигаться по сцене только фронтально; уже незначительный поворот боком был ошибкой, и мы старательно избегали этого - как элемента "личностного", как чего-то люциферического; форма с круговыми переходами должна была здесь быть безупречной. Пожалуй, из-за этого в большинстве случаев мы делались скучными, - также и для самих себя, - однако так вырабатывалось хорошее чувство пространства. Только в случае праздников нам давали большие стихотворения Гёте или Шиллера, и несмотря на все наше бессилие, это оказывало и на нас, и на зрителей такое влияние, какое в последующие годы достигалось лишь изредка. Лекции доктора Штейнера предварялись небольшими представлениями. Вначале изображалось изречение недели из "Календаря души", эвритмически приспособленное к аполлоническим формам госпожи Киселевой, затем шли 4-5 наших групповых стихотворений. - В промежутке между эвритмией и лекцией нам не хватало времени на то, чтобы сходить в кантину; поэтому в проходе возле сцены были установлены два столика, чтобы мы могли поесть. Доктор Штейнер, следуя юмореске Моргенштерна, назвал этот угол "Золотым человеком".
Особенно остро переживался трагизм времени в пасхальные недели 1915 года. В тогдашних лекциях, в связи с рецитацией госпожой Штейнер некоторых мест из "Песни нибелунгов" Вильгельма Иордана (оплакивание смерти Бальдура), доктор Штейнер указал на то, что речь здесь идет о том будущем, когда человек утратит свой солнечный природный дар воспринимать цвета. Солнечное затмение, которое мы наблюдали из кантины вместе с доктором и госпожой Штейнер, произвело удручающее действие. - Вскоре после этого доктору Штейнеру пришлось уехать, и вновь в это ненадежное военное время мы спрашивали себя: вернется ли он? Тревожный вопрос, повторявшийся не раз в ходе войны.
При постановке сцены пасхальной ночи из "Фауста" доктор Штейнер велел, чтобы блестящие красные завесы вначале были прикрыты черными, а затем при словах "Христос воскрес!" их надо было отодвинуть. Но вот фрейлейн Е., которая мало-помалу взяла на себя контроль над сценической обстановкой, сочла начало этой картины слишком мрачным и велела оставить всюду на виду красную полосу. Однако ее указание принято не было, и ей пришлось немедленно его отменить.
В сцене пасхальной ночи трогательным был выход хора мироносиц и Ангела, освещенного красным светом (его изображала госпожа Киселева), в окружении толпы детей: их непосредственность, не считающаяся с обычной сценической дисциплиной, не противоречила настроению праздничного благочестия, присущему детской эвритмии. Для изображения земного духа госпожа Штейнер хотела стоять при рецитации за огненно освещенным покрывалом и при этом эвритмически шевелить это покрывало с помощью двух палочек. Это то удавалось, то нет, пока она, отчаявшись, не отказалась от своего замысла. Данный опыт привел к окончательному выводу, что нельзя совместить рецитацию и эвритмию.
Невозможно вспомнить и перечислить всю последовательность постановок в 1915 году сцен из "Фауста": вначале они были
чисто эвритмическими, а затем все больше соединялись с драматическим началом. Часто какая-либо сцена осуществлялась в простом варианте, а уже на следующей неделе дополнялась и усовершенствовалась. Госпожа Киселева, находившаяся около Марии Штейнер, кое-что написала об этом в своих воспоминаниях(4), - здесь прибавить к ним можно лишь несколько личных впечатлений.
Я умела выполнять только свои пять гласных; рецитируя "Положение Фауста во гроб", мы должны были при этом стоять полукругом с крупными бумажными розами у груди, которые следовало бросить перед собой на сцену. (В первый раз у "несовершенных Ангелов" в этой картине были зеленые одеяния, а у "совершенных", имеющих красивые крылья - светло-фиолетовые. Но как изображать дифтонги, - скажем, "ья" в слове "дьявол"? Это мучило меня ночью; но во сне доктор Штейнер вывел меня из этого затруднения, показав, как это делается. На следующей репетиции на этом самом месте я заметила его мимолетный взгляд, брошенный в моем направлении. Это было в начале сцены положения во гроб. Лишь много позже к ней добавились другие картины. - Незабываемым было впечатление от начала "Пролога на небесах". Госпожа Штейнер читала весь текст, и только во время слов Господа Миета Валлер пыталась с помощью рупора усилить ее нежный, одухотворенный голос. Но вскоре затем ей надо было быть на сцене, чтобы изображать трех Архангелов вместе с госпожой Киселевой и госпожой Шурман. На фоне огненно-красных завес, стоя на тонких досках по вершинам пентаграммы, пять эвритмисток представляли голос Господа. -Такой спектакль, каким бы он ни был примитивным, для его участников, равно как и для зрителей, стал событием мистериальным, сакральным.
Посещение мастерской мисс Марион
В конце этих пасхальных дней мне выпало на долю еще одно значительное переживание. Вместе с сестрой мы посетили мисс Марион на ее рабочем месте: это были два помещения, пристроенных сзади к столярной. Там она лепила формы подставок к лестничным перилам - три охватывающих друг друга полукружия наподобие тех, которые имеются в человеческом ухе; они представляли собой образ равновесия. Неподражаемой была крошечная модель доктора Штейнера, к сожалению, пропавшая. Вспоминались шеи лебедей, начинающих полет, захватывала устремленная вверх сила.
Мисс Марион показала нам последние работы доктора Штейнера для будущей скульптурной группы. Еще совершенно примитивный, лишь намеченный образ Христа: левая рука поднята вверх к падающему крылатому Люциферу; правая вытянута вниз к извивающемуся Ариману, снабженному крыльями летучей мыши. Все изображение имело в высоту 40 см; повсюду были видны кусочки дерева, скрепляющие пластилин. - Затем голова Аримана, хотя простой формовки, но необычайной выразительности и огромного драматизма, переданных с помощью энергии поверхностей, - манера, столь характерная для художника. - Мисс Марион показала затем голову Христа в естественную величину, находящуюся в работе. Сердечность, подобная свету, которая одновременно есть тепло, душевная теплота - вот что ощущалось перед этим изображением. То был дар, который продолжает свою жизнь всякий раз, когда отыскиваешь его в своем воспоминании. "Господин доктор не совсем доволен положением головы, - сказала мисс Марион, - там есть что-то вроде гордости, а у Христа нет ни капли ее; впоследствии голова будет немного наклонена вниз".
Наш сонм резчиков все сильнее редел; призывались все новые люди из среды друзей. И после того как в основном были закончены архитравы большого купола, мы переместились в малый купол. Моей сестре достался архитрав из вяза, мне - из кленового дерева. Рядом со мной работала фрейлейн Кучерова. Меня восхищало то искусство, с каким она обрабатывала грушу. Мне не верилось, что я смогу подражать ей. Мне приходилось стесывать один слой за другим, она же прямо высвобождала форму из ее природной оболочки. "Правильно, это не сапог, а нога", - высказался на этот счет Рудольф Штейнер, который был очень доволен искусством фрейлейн Кучеровой.
В помощники мне дали музыканта ван дер Пальса и фрейлейн Вреде. В стоящем поблизости архитраве из вяза бросались в глаза две формы: одна, подобная месяцу, и другая, напоминающая эмблему журнала "Die Drei". "Но это не должно выглядеть, как какая-то булка," - сказал о первой доктор Штейнер, придавая ей более сильный изгиб и делая насечки. Нижнюю часть второй он обтесывал сам, чтобы мы увидели, какой он ее себе представляет. Однако никто из нас не отваживался когда-либо обращаться с деревом в такой свободной, характерной манере. Заниматься этим архитравом поручили моей сестре; она должна была защищать работу доктора Штейнера от "слепого усердия".
Визиты в "Дом Ханси"
Неустроенность военной атмосферы неблагоприятно сказывалась на сверхчувствительности Бугаева. Быть может, именно по этой причине нас несколько раз приглашали в "Дом Ханси". Русский самовар, который ставила Миета Валлер, создавал в доме уютное настроение. На стол подавалось блюдо великолепной земляники. "Я не понимаю доктора Штейнера, - говорила госпожа Штейнер, - у нас никогда не бывало земляники, - ее никогда ему не хотелось, - и вдруг сегодня, когда мы тили через
Арлесгейм, он врывается в лавку и покупает непривычную для нас землянику". Доктор Штейнер молча улыбался, я с трудом удерживалась от смеха. Дело в том, что Бугаев уже неоднократно справлялся в деревне относительно земляники, но еще ни разу не достал ее. Он страшно любил землянику. Доктор Штейнер, угощая меня миндальным молоком, указал бумажной салфеткой на палочку. "Если Вы и впредь будете так жить и есть так мало, то скоро станете вот такой", - сказал он мне. Я не обратила внимания на его предостережение.
Бугаев все вновь неловко пытался намекнуть господину доктору на некоторые свои проблемы. На это доктор Штейнер рассказал ему две древнеперсидские сказки. Первая была о принце, который ищет рубашку "счастливого человека", но у этого последнего рубашек вообще нет; а вторая - о человеке, которого преследует разъяренный верблюд, и он хочет спастись от него в колодце: две мыши грызут сук, за который он держится, а внизу его поджидает дракон. - Но где же тут спасение? - задать этот вопрос я не отважилась.
Однажды доктор попросил госпожу Штейнер рассказать о каком-нибудь происшествии из ее детства. Ей и ее брату обещали, что непременно возьмут их в цирк. Она из-за этого так разволновалась, что у нее поднялась температура и ей пришлось лежать в постели. Брат же, увидев во время прогулки в одном дворе козла, вернулся домой совершенно довольный, так как был убежден, что побывал в цирке. "Такими разными бывают темпераменты", - подытожил рассказ доктор Штейнер.
В другой раз госпожа Штейнер рассказал нам о несчастном случае, который произошел с ней в юности. Находясь под влиянием сочинений Толстого, она поехала в деревню к своему брату, чтобы общаться с крестьянами. Она взяла на себя ведение хозяйства, и в Предтечев день, поскольку ждали гостей, велела приготовить курицу, что привело прислугу в смятение. Отправившись сама в "холодильник" (вырытое глубоко в земле помещение
вне дома, в котором находились глыбы льда, предназначенные для сохранения продуктов в свежести), она поскользнулась на сбитых ступенях и ударилась головой о край льдины. Почти лишившись сознания, она наткнулась на служанку, которая, вопя и крестясь, убежала оттуда. Только очнувшись после долгого обморока, она выползла из холодильника с сотрясением мозга. По убеждению прислуги, это было Божиим наказанием, так как в день, посвященный Иоанну Крестителю, она приказала отрубить голову живому существу. - Для этого пригласили "безбожника" из соседней деревни.
Затем в моей памяти оживает рассказ о том, как еще до знакомства с доктором госпожа Штейнер пыталась заниматься спиритизмом в кругу людей с серьезными устремлениями. Во время сеанса им удалось вызвать некоего римского воина. Он громко прокричал несколько слов на едва понятной латыни и исчез. Потом им удаюсь вызвать образ Данте. Он прочитал им незнакомое стихотворение Данте, - не из лучших, но, несомненно, в его стиле. "С личностью Данте этого быть не могло, - объяснил доктор Штейнер, - помимо того, быть может, он тогда вновь был воплощен. Столь мощные индивидуальности оставляют после себя в Акаша-Хронике особые отпечатки. Это образы, обладающие собственной жизнью; в таком серьезном кругу ищущих людей они даже могут читать стихи".
Однажды при расставании доктор Штейнер снял мое пальто с вешалки, желая подать его мне, но заметил, что оно висит на одном воротнике, так как петля была оборвана; тогда он повесил пальто на место. "За это ты сама должна надеть пальто", - сказал мне его насмешливый взгляд. Но все было проделано столь очаровательно, что я едва не рассмеялась.
При прощании в той же самой прихожей я решилась задать один вопрос и начала: "Господин доктор, должна ли я...?" - "Вы должны? - прервал он меня. - Вы абсолютно ничего не должны. Спросите себя, хотите ли Вы; если Вы хотите, то Вы также и должны, поскольку воление и долженствование - это одно и то же. Одно и то же", - повторил он. Так мой вопрос остался без ответа.
Но часто бывало и так, что мы недоумевали, почему он дал именно такой ответ: мы ожидали другого. И тем не менее, когда данный разговор воспроизводился в памяти спустя месяцы, а иногда и годы, мы непременно приходили к убеждению, что это был самый прямой и полный ответ на вопрос, который не был до конца продуман и потому был неточно сформулирован.
Сочинение о Гёте Бориса Бугаева (Андрея Белого)
В 1915 году Бугаев энергично взялся за сочинение, в котором он намеревался разобраться с миросозерцанием Гёте. Поводом к этой работе стала толстая полемическая книга, написанная другом Бугаева издателем Эмилем Метнером(5) , братом композитора. Хотя речь шла о книге, посвященной Гёте, центр тяжести в ней приходился на поверхностную критику доктора Штейнера, "который не понимал, что лучше обойти молчанием гётевский дилетантизм в области естествознания, прежде всего по отношению к Ньютону и философии Канта": этот взгляд в то время был вообще распространенным. Досада на то, что друг оказался "в плену у доктора Штейнера", привела Метнера к таким полемическим выпадам, которые Бугаев (отчасти и из-за доктора Штейнера) не смог молча стерпеть. Ради того, чтобы возразить Метнеру, ему пришлось наверстывать упущенное - изучать не знакомые ему до сих пор труды Рудольфа Штейнера по теории познания. Это привело его к потрясающему открытию: он нашел в них то, за что боролся на протяжении ряда лет - обоснование возвышения познавательной деятельности до творчества в имагинативном сознании. Бугаев пытался отвоевать эти идеи (в качестве своего "символического" миропонимания) в полемике с различными неокантианскими направлениями. - Во время бесед Бугаева с доктором Штейнером об ответе Метнеру я высказала опасение, что Бугаев сражается со своим противником излишне темпераментно. "Вы даже можете его слегка стукнуть, - сказал на это, улыбнувшись, Рудольф Штейнер, - только не по голове, а по более мягкому месту". - Этому совету в должной мере не последовали, из-за чего книга "Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности" потеряла в своем значении.
Позже в одной из лекций доктор Штейнер охарактеризовал ход мыслей Бугаева как живое, подвижное мышление, приходящее из русской стихии; оно столь утонченно, что европейскому образу мыслей может показаться несколько странным.
Как уже упоминалось, широко распространено мнение, что Бугаев в дальнейшем занял враждебную позицию по отношению к доктору Штейнеру. Но в его автобиографии, написанной незадолго до смерти, имеются места, противоречащие такому утверждению. Так, Андрей Белый описывает поездку в Мюнхен в 1906 году, состоявшуюся вскоре после тяжелого жизненного испытания. В мюнхенском "трактире августинцев" он переживает нашествие двойников, на него обрушиваются голоса как воспоминания о прошлых жизнях. Он ощущает себя под сводами пещеры, в глубине германских лесов... Снаружи, у бурлящего Изара, стоит "брат" - он сам? Ноне стоит ли он на мосту через Неву, глядя на холодные волны?.. А дальше он описывает, как идет домой по тихим улицам, мимо кафе Zuitpold. "Там есть зал для лекций. В этом зале через шесть лет я получил ответ на мучающие меня тогда жизненные вопросы". Так пишет Белый; это описание должно было ускользнуть от строгой цензуры из-за ее незнания контекста. - А вот другое место, где содержится намек на совместную работу с Рудольфом Штейнером: "Только серьезная встреча с естествознанием Гёте в 1915 году привела меня к пониманию моих юношеских ошибок".
Также и другие места, содержащие осторожные, но при этом определенные формулировки, показывают тому, кто знал его жизнь за границей, что Белый пытался между строк сообщить друзьям о своей верности антропософии Рудольфа Штейнера.
Продолжение занятий эвритмией и строительства Здания
Хотя мы разучили множество прекрасных стихов Гёте о любви, решающей для нас была следующая установка: все то, что связано с самовыражением личности, -все характерное, всякий изгиб тела, - люциферично. - Некоторые члены нашей группы усомнились в правильности такой установки; тем не менее мы еще долго сохраняли при движении фронтальность и безучастность, не умея обосновать права субъективного и объективного элементов. Решающим здесь оказалось то, что однажды наш музыкант Ян Стутен энергично запротестовал против нашего слишком "объективного" понимания эвритмии: ведь она должна исполняться с радостью, вдохновением, подъемом; из нее не следует изгонять все субъективное. Этот спор дошел до доктора Штейнера, который сказал по этому поводу, что на сцене Люцифер у себя дома, здесь он оправдан. - "Но если вы будете исполнять эвритмию, наклонив лицо к животу (выражение одной итальянки, которое он часто употреблял и которое означало неуместное благочестие), тогда вы сделаетесь по-настоящему ариманичными. Однако следует избегать всякой мимики: в эвритмии это были бы гримасы".
Хотя лица у нас еще долго оставались оцепенелыми, корпус постепенно оживал, особенно благодаря более подвижным формам групповой эвритмии, которые доктор Штейнер дал для стихотворений Ферхера фон Штейнванда.
Однажды, придя на репетицию, я заметила, что произошло нечто особенное. Все были возбуждены из-за того, что госпожа Богоявленская выполнила форму для юморески "Полунощная мышь" не фронтально, а с сильным разворотом. "Очень хорошо, - воодушевился доктор Штейнер.- Не правда ли, - обратился он ко мне, - это очень хорошо?" Я не могла ничего ему продемонстрировать, мне было жаль его разочаровывать, и я пробормотала: "Да, господин доктор, это, казалось, хорошо". "Вот как!" - засмеялся он и громко заявил: "Бугаева говорит: это, казалось, хорошо!" Я слышала, как он за сценой еще несколько раз повторил новую остроту. Он всегда был таким: все должны участвовать в событиях и серьезно, и шутя. Во всяком случае, так было положено начало тому, чтобы в подвижные формы вживаться в движении.
Особенно скучно делалось тогда, когда доктор и госпожа Штейнер уезжали и мы самостоятельно готовили для них представление. Я попыталась немного оживить лиричное стихотворение Конрада Фердинанда Мейера; для этого я велела убрать со сцены белый свет и включить красную и синюю лампочки, которые остались от спектакля "Фауст" и до сих пор висели по углам. Со страхом и напряжением я ожидала реакции во время показа. Она не заставила себя ждать. Доктор Штейнер сидел в своем кресле, как всегда, отрешенно, лишь покачивая ногой. Конечно, его мысли были где-то совсем в другом месте. Но вот наступил черед красно-синего стихотворения, и он проснулся, как от толчка, посмотрел удивленно в пространство, низко нагнулся, чтобы увидеть лампы, и едва смог дождаться конца стихотворения. "Сегодня в эвритмию вступает совершенно новый элемент. Цветное освещение будет выражать перемену в стихотворении душевно "духовного настроя". При этих словах он вскочил и потребовал, чтобы немедленно пришли архитектор Айзенпрайс и Эренфрид Пфайфер. Едва они появились, он дал им точные указания, где и как следует расположить приборы для цветного освещения.
Конечно, я не ожидала таких обширных последствий от своих двух лампочек. Но это пример того, как доктор Штейнер зачастую ждал чего-то приходящего извне, - чтобы завладеть им и сделать из него нечто великолепное.
Эвритмическая работа постепенно развивалась. Мы уже пытались собственными примитивньми силами поставить некоторые эвритмические сцены из "Фауста". Работа оживилась теперь еще благодаря нескольким эвритмисткам, которые приехали в Дорнах: это были Аннемари Донат, Элизабет Дольфус, Аннемари Грох, Эрна Вольфрам и прежде всего, Лори Смит с ее огненным вдохновением. - "Wannte nur...", - слышались рокочущие раскаты многих "р" в стихотворении Моргенштерна "Морской прибой", переданном голосом госпожи Штейнер; одновременно на сцене бушевала Лори, - и вдруг она исчезала, как бы улетучившись. После нескольких секунд оцепенения мы видели, как она выползает из узкой щели между осветительным устройством и сценой, - зеленая, точно березовый лист, но с готовностью вновь раскатывать свои "ррр". "Когда госпожа Штейнер вкладывает в рецитацию столько сил, меня это просто захватывает", - говорила она.
Поскольку нас оказалось достаточно много, мы могли взяться за изучение заключительной картины "Фауста" - взятия Фауста на небо. Однако сцена в столярной была слишком мала, и поэтому решили также использовать и левый боковой проход. Здесь была установлена площадка с лестницей для Mater gloriosa. Ее собственное место находилось в середине сцены над Pater Seraphicus. - Сбоку святые отшельники, слева Pater Ecstaticus, поднимающийся и опускающийся, справа Pater Profundus. В вышине - прекрасная картина: Pater Seraphicus в окружении детей. Еще выше, слева, появляется Doctor Marianus; было естественным (и при этом все же неким чудом) признать в нем Фауста.
Но нас ожидало еще одно чудо. Писание декораций взяла на себя художница, сильно склонная к фантазированию. Чтобы взгляд устремлялся сверху вниз, она распорядилась украсить верх сцены кактусообразными фигурами. Между ними была изображена темная вода, а у воды - или, скорее, под водой - сидел старый рыбак.
"Львы к ним у пропасти
Ластятся с кротостью.. ."(6)
На стене позади помоста для Mater gloriosa появился огромный лев, - с большим правом, чем рыбак, - правда, скорее, яростный, чем кроткий. Еще более странными были намалеванные ярчайшими красками мухоморы вперемешку с гномами, - словно в книжке с картинками, - которые были приделаны к передней стенке сценического подиума.
Доктор Штейнер не заметил наших вопросительных взглядов; казалось, он даже был совершенно доволен; фактически это нововведение не мешало художественному событию, которое разворачивалось перед нами как некое священнодействие. Можно было приобщиться к преображению земного трагизма, донесенному до нас одухотворенным голосом Марии Штейнер. Впервые это преображение передавалось также эвритмическими жестами "кающихся грешниц", прежде всего Лори Смит. А вновь появившиеся львы, рыбак и карлики сохраняли верность нашей столярной еще на протяжении ряда лет, - последние, правда, в основном были закрыта рампой.
С приехавшими эвритмистками и несколькими передовыми людьми из нашего окружения доктор и госпожа Штейнер работали ежедневно по несколько часов в только что завершенном так называемом Белом зале, целиком отделанном светлым деревом, - прекрасном помещении в южном боковом крыле Гётеанума. Тот день, когда нас, ничего не подозревающих прочих эвритмисток, позвали в Белый зал, относится к лучшим дням нашей жизни в Дорнахе. - Двенадцать из нас были поставлены в
круг, а семеро образовали подвижный радиус: двенадцать знаков Зодиака и семь планет. Госпожа Штейнер прочитала нам "Двенадцать настроений" Рудольфа Штейнера. Эта космическая и одновременно столь теплая, человечная лирика действовала потрясающе. Не является ли звездный мир нашей истинной родиной, с которой мы ощущаем связь в глубине души?.. Здание спустилось к нам оттуда. Казалось, что окружающие нас формы Здания движутся под звучание слов... Каждый знак Зодиака и каждая планета должны были показывать конкретный звук в присущем ему цвете. "А если я не могу выполнить, скажем, Б или М в красном?" - последовал вопрос. "Тогда Вы должны быстро поместить цвет в промежуток между звуками", - ответил доктор Штейнер. Вскоре затем мы показывали "Двенадцать настроений". Я стояла в "Водолее" и в конце должна была возглавить уход со сцены. Но я была не в состоянии в тот момент пошевельнуться; меня охватило "безграничное", а пробудила лишь поднявшаяся вокруг суматоха...
Затем была представлена "Песнь инициации", сатирический зодиакальный круг.
"Глаза его ярко сияли,
И мысль застывала в мозгах..."
"Духовный мир может даже смеяться над человеческой глупостью", - любил повторять доктор Штейнер. Казалось, что события создают самый подходящий контекст для сатирического зодиакального круга. На протяжении нескольких дней в столярной шли заседания, во время которых происходило очищение от накопившихся к тому моменту фантазий по поводу инкарнаций. Доктор Штейнер с тихой печалью и одновременно с улыбкой наблюдал за этими курьезными вещами. Здесь тесно переплелись трагическое с юмористическим.
Вскоре возникла необходимость обсудить всем Обществом письмо, полученное доктором Штейнером от фрейлейн Шп. И доктора Г. Оказалось, что несколько дам были обмануты в своих ожиданиях. Они ходили мимо нас, шипя от злобы (некоторые в одеяниях кающихся грешниц), со своими претензиями на ошеломляющие инкарнации и историями, переполненными сплетнями. Некоторые отшатывались от нас с возмущением. В этой группе трогательное впечатление производила пожилая, довольно толстая дама, обильно украшенная лентами, которая в отчаянии восклицала: "Но как можно объяснить кому-то реинкарнацию, если я не вправе сказать людям: "Взгляните на меня, и вы сразу же поймете, что я была маркизой". - "Меня спрашивали 50 дам, - говорил доктор Штейнер, - не приходилось ли им бывать Марией Магдалиной, - она особенно популярна. Вы видите, каким нужно обладать терпением".
Для Бугаева напряженная атмосфера этих дней была невыносимой, и он сбежал в горы. Там у него созрело решение передать свои детские воспоминания в книге "Котик Летаев" - поэме в прозе, в которой с помощью детских переживаний образно показаны духовные вещи. Эта книга, а также написанная в 1913 году концовка романа "Петербург" для самого Бугаева стали ответом на то опасение, что духовнонаучные знания могут быть уничтожены художественным вдохновением, - с этим предрассудком часто приходилось встречаться.
Последний год пребывания Бугаева в Дорнахе прошел под знаком этой книги и в работе над теоретикопознавательными сочинениями Рудольфа Штейнера. Это помогало, но не спасало от все возрастающих внутренних трудностей, одолевавших его почти до самого отъезда. Сюда относился богатый мир образов, порожденный его медитациями, - это не говоря о том, что разыгрывалось в его личной судьбе. Доктор Штейнер считал подобные образы субъективными имагинациями. В годы военного хаоса этот образный мир привел его к надрыву; теперь он стал источником страхов: перемена погоды, уличные встречи, случайно услышанное слово делались грозными опасностями,
враждебными кознями с целью убрать его из Дорнаха... Как в мифе об Оресте, преследуемом фуриями, призрачный мир, который он сам создал, исказил для него окружающую действительность. - Некоторые из этих болезненных переживаний Андрей Белый объективно показывает в "Записках чудака". Он освободился от этого мира только напоследок, чтобы вновь почувствовать себя хорошо в любимом Дорнахе. Доктор Штейнер с теплым участием пытался ему помочь.
Рождественские спектакли
Как просветы в мрачном военном времени вспоминаются праздники Рождества и подготовка к ним. Доктор Штейнер разучил с избранными из нашей среды актерами три рождественских спектакля - на темы рая, рождения Христа и трех царей. Эта традиция восходила к крестьянам, жившим на острове Оберуфер на Дунае близ Прессбурга. Беспомощное порой усердие актеров придавало их игре особый оттенок. Навсегда в памяти остался Эрнст Айзенпрайс - звездочет и служитель Ирода. Макс Шурман был великолепным чертом, его жена - прелестным Ангелом. Особенно вьщелялись Адам, пастух-галл и Ирод, - всех троих играл Ян Стутен. Миета Валлер в роли Бога Отца и "красного царя" привносила в спектакль теплое, благоговейное средневековое настроение. Архитектор Ранценбергер был превосходным шутом и царем мавров. Музыка - полная чувства, гениальная и впечатляющая - была написана по совету доктора Штейнера Леопольдом ван дер Пальсом. Эти простенькие спектакли, в которых соединилось веселое, трогательное и возвышенное, вызвали интерес и у деревенских жителей.
Однажды доктор Штейнер показал нам, каким должен бьпъ в таком спектакле Иосиф. Он вышел на авансцену, неуверенно спотыкаясь, с палкой в руках, с пустым, потерянным взглядом
и открытым ртом, - лицо старца, лишенное какого бы то ни было душевного движения. Внезапно он оступился на свою палку и к нашему ужасу растянулся на сцене, затем вскочил и рассмеялся. "Да, Иосиф в этом спектакле должен быть именно таким", - сказал он. Его способность к превращениям была невероятной.
Со временем интерес к этим рождественским спектаклям охватывал все более широкие круги. Труппа часто получала приглашения из разных мест. Позднее в Германии образовались театральные общества. Связанные с Рудольфом Штейнером труппы Хаас-Беркова, Гюмбель-Зайлинга и Кугельмана также внесли сюда свой вклад: стиль этих народных спектаклей, разработанный им с такой любовью (он был знаком с подобным стилем с юности благодаря своему учителю Карлу Юлиусу Шрёеру), постепенно стал общим достоянием. Но в широких кругах не знали, что инициатором возрождения этих представлений был Рудольф Штейнер.
В первые годы еще можно было увидеть на сцене, украшенной еловыми ветками, большую рождественскую елку, которая была увешена розами и золотыми знаками и освещена горящими свечами; таким был фон для рождественских лекций, которые продолжались из года в год и отличались большой сердечностью. В этих лекциях военного времени и сегодня еще можно ощутить пронизывающие их тепло и серьезность. Эти возвышенные празднества не позволили предать забвению пережитые человечеством тяжкие времена.
Работа с Марией Штейнер
В условиях войны приходилось во всем экономить. Так как столярная отапливалась слабо или вообще не отапливалась, мы занимались в шляпах и пальто. Госпожа Штейнер ободряла нас
тем, что, несмотря на холод, во время длительных репетиций без устали рецитировала для нас. Она хотела, чтобы мы сами продвигались вперед под ее рецитацию. Советы давать она опасалась. Эвритмистки учились интуитивно следовать динамике произносимых слов. Ее голос вызывал в пространстве некое движение, в которое мы вкладывали свои жесты.
Когда рецитировали другие, при этом тоже возникали какие-то пространственные формы; иногда они даже оказывались очень компактными, и приходилось избегать их. Но формы госпожи Штейнер были как бы "меньше", чем соответствующее пространство; они не оказывали принуждения. Долгим и трудным был для нас переход от беспомощных движений к выражению звучания слов, чутьем улавливаемого в пространстве.
Спустя много времени госпожа Штейнер однажды сказала мне, что она считала допустимым поправлять речь учеников, требуя от них, чтобы они говорили так, как показывает она. Речь имеет отношение к сознанию, здесь человек свободен. Но эвритмия относится к движению, к области воли. Здесь всегда есть опасность влияния. Поэтому она никогда не позволяла себе регламентировать движения.
Если при изображении звуков мы были целиком предоставлены самим себе, то тем строже зоркий лорнет госпожи Штейнер следил за хореографически неудачной линией построения, за искажением заданной формы; с бесконечным терпением она повторяла неудавшуюся строку, пока та наконец не исполнялась правильно.
Все это происходило в холодных, пыльных, плохо проветренных помещениях. На репетиции ее доставляли в 11 часов преимущественно на каталке, поскольку ей все чаще отказывали ноги. Ей приходилось своим сильным голосом превозмогать визг механических пил, работающих в соседнем помещении. Тишина наступала только в 12 часов, когда в столярной был рабочий пeрерыв. Мою сестру и меня освобождали от резьбы, если в нас
возникала нужда; теперь спешки в работе над Зданием уже не было. Примерно после часа дня приходил доктор Штейнер и смотрел наши упражнения, сидя рядом с госпожой Штейнер на маленьком подиуме. Около 2-х часов они вдвоем уходили домой, а мы бежали в кантону. В 5 часов начинались вечерние репетиции, которые длились до 7 или 8 часов, а иногда и гораздо дольше.
Отъезд Поццо и Бугаева
Весной 1916 года были призваны и Поццо с Бугаевым, но лишь летом они смогли последовать призыву. Для Бугаева это означало отвлечение на несколько месяцев от мучившего его хаоса. Ему удалось заново обрести контакт с внешним миром; он был рад и благодарен тому, что мог побыть в Дорнахе возле доктора Штейнера. С большим усердием он бил в литавры, когда маленький оркестр репетировал музыку, написанную Яном Стутеном для "сцены Ариэля". Звучание солнечного восхода проникало сквозь стены столярной. Однажды это произвело сильнейшее впечатление на одного ребенка. Он застыл, закрыл руками голову и уши, закружился вокруг себя и ошеломленно заметался из стороны в сторону, словно искал, куда укрыться. "Да, так эльфы встречают восход Солнца", - сказал при этом доктор Штейнер.
На сцене со светло-лиловым занавесом, на котором были нашиты матерчатые цветы, мы эвритмически изображали хоры эльфов в сцене Ариэля. (Формы для этого Рудольф Штейнер нарисовал в свое время на листе грубой оберточной бумаги, который находился здесь же). Миета Валлер играла Фауста, Ее характерное лицо средневекового рыцаря (одновременно и ренессансного гуманиста) и ее теплый голос хорошо подходили для роли. Сильное впечатление производила та глубокая сердечность, с которой доктор Штейнер во время репетиций демонстрировал нам монолог Фауста. В памяти навсегда
запечатлелись слова: "И в эту ночь, земля, ты вечным дивом..."и "Та радуга и жизнь - одно и то же"(7).
Призванных на войну пригласили осмотреть только что законченные росписи большого купола, но это не принесло им радости. Бугаев не мог согласиться с этими водянисто-бледными, хотя где-то и не плохими изображениями: в последние годы он привык к красочному миру переживаний. Ему стоило усилий остаться вежливым. Только "Праиндус", написанный Лотус Перальте, заслужил его одобрение. Но насыщенные краски "Праиндуса" делали прочую роспись еще более расплывчатой. -Также и другого художника постигла неудача в его работе. Доктор Штейнер сделал для него эскиз правой стороны композиции "Сотворение Земли Элохимами", на котором были изображены три Элохима, причем где-то сбоку подразумевался четвертый. Художник буквально перенес этот эскиз на левую сторону, отражающую правую; ко всеобщему удивлению, в композиции появилось восемь Элохимов. На память приходило место из "Фауста":
... "Там, пожалуй, присутствует восьмой,
О котором никто еще не думал".(8)
Но доктор Штейнер оставил все как есть.
Отъезжающие могли посещать и эвритмические репетиции. Мы уже работали над сценой "Положение во гроб"-сценой борьбы Ангелов с Мефистофелем за Фаустову энтелехию. Доктор Штейнер как всегда демонстрировал со сцены эти картины. - Хотя мои познания в немецком языке тогда уже несколько продвинулись, однако это касалось прежде всего лекций доктора Штейнера; язык Гёте я воспринимала лишь отчасти, полное понимание приходило постепенно. В качестве Ангелов в этой сцене нам надо было кружиться вокруг доктора Штейнера, читавшего за
Мефистофеля. Но почему он стал таким чужим?.. Слава Богу, сцена кончилась, и он сделался прежним. Только спустя много времени я поняла граничащие с непристойностью речи Мефистофеля и все то, что им сопутствовало.
На Бугаева сильно подействовало его прощание с доктором Штейнером. "Через Вас многие найдут путь к антропософии, - было сказано Бугаеву. - Но обращайте внимание на то, чтобы во время лекций никогда не употреблять выражения "так утверждает антропософия", - используйте только тезис "так я понимаю антропософию", ибо она больше того, что о ней может сообщить одно конкретное мнение.
"Было тяжело?"-спросил доктор Штейнер, когда мы с сестрой после отъезда Бугаева и Поццо возвратились со станции. "Неизвестно, доведется ли встретиться вновь", - было моим ответом. "Да, этого знать нельзя", -повторил он задумчиво.
Уже в начале этого года мы передали пространство малого купола группе художников. После основательной подготовки быстро справился со своим заданием - основным мотивом над так называемым "балдахином" - барон Розенкранц. Тело дракона - Аримана - удивительно пластично извивалось в пещере, Люцифер сиял красотой Художник также нанес нежные краски, предназначенные для образа Христа, на легкий гипсовый рельеф. Этот образ тоже вышел очень выразительным. - Госпожа Волошина представила "Египетского посвященного" и "Славянина" с помощью прозрачных, но тем не менее энергичных поверхностей. Вскоре оба художника уехали: один на запад, другая на восток. При этом они дали согласие на то, что в их работу будут внесены изменения.
Позднее обнаружилось, что живописный образ в центре сильно контрастирует с образом Христа в скульптурной группе, модель которой уже была готова; эта группа, выполненная в дереве, должна была занять место прямо под центральным образом. Поэтому доктор Штейнер принял решение заново писать
весь центральный мотив. Оставшиеся художники были так захвачены его живописной манерой, что просили его заново воспроизвести и их купольные мотивы. Получилось так, что Рудольф Штейнер сам расписал всю южную половине малого купола.
Сокращение резных работ
Все меньше становилась наша группа резчиков. Лишь отдельные удары молотков доносились из отдаленных частей холодного, затемненного лесами Здания. Окна были заколочены досками. Трое основных резчиков еще работали ожесточенно над западным и южным порталами. Затем они также были отняты войной. Наконец остались четверо или пятеро женщин и пожилой художник из Кёльна господин Вегелин. Он никак не мог смириться с нашим "бабьим хозяйством". Мы часто слышали, как он ворчит: "Сам господин доктор говорил, что гнев божественен". Возможно, из протеста он изобрел новый способ резьбы, при котором он резко обрывал отсекаемую древесину. Поэтому у его "Саламандры" - изображения на дровяной печи - оказалась поверхность, издали походившая на овечий мех. Было невозможно разубедить его работать в таком стиле или воспрепятствовать ему; но позднее у этих странных зверей была "содрана шкура".
Часто доктор Штейнер останавливал меня, чтобы спросить, как идут мои дела. Понять этого я не могла. Конечно, все стало сложнее. Из-за холода нам часто приходилось репетировать в пальто, и наши стамески на морозе ломались. Надо было экономить на еде; мы были вынуждены оплачивать из собственного тощего кармана единственного оставшегося рабочего господина Бурле. Он заделывал трещины в архитравах, образовавшиеся при обработке дерева. - Этот господин Бурле впоследствии при обрел известность своими вопросами к доктору Штейнеру во время лекций для рабочих. Но уже в то время ему было что
рассказать. Ему мы обязаны единственным указанием доктора Штейнера в связи с "Престолами" в малом куполе. "Здесь звездный мир спустился, а органическая жизнь переместилась вверх, в архитрав", - так ответил доктор Штейнер на его вопрос. Этот ответ бросает свет на соотношение обоих куполов.
Осмысление современности
Уже в самом начале войны доктор Штейнер пытался говорить с нами о втором, скрытом плане событий и его воздействии на духовную жизнь. Шовинистические настроения, поднявшиеся в среде слушателей, которые были заброшены сюда со всех концов света (мы представляли около 17 наций), тогда воспрепятствовали этому. Он отказался от своего намерения с горечью, и в его словах все вновь возникало что-то вроде укоризны. И теперь, спустя более двух лет, поздней осенью 1916 года он сказал в одной из лекций, что мы в качестве сообщества не исполним своей задачи, если не будем в состоянии спокойно выслушать то, что он должен нам сказать о современных событиях; и он начал снова их разъяснять. После лекции оставалось лишь несколько человек, когда к нему ринулась пожилая возбужденная американка, которая сказала, что в своих рассуждениях он ошибается, что дело обстоит совсем не так, как он это представляет. Я никогда не видела доктора Штейнера в таком смятении. Что-то должно было произойти. Поскольку из-за болезни я с утра не выходила, моя сестра взяла на себя труд вместе с другими составить письмо к доктору Штейнеру с просьбой продолжить начатое, даже если недовольные будут протестовать. Восемнадцать, я думаю, человек подписали это прошение, и на следующий день доктор Штейнер заметил, что благодаря этому письму он счел возможным не отступать от своего замысла, - в противном случае ему бы пришлось не затрагивать этой темы.
Так были прочитаны эти лекции о современном положении; они продолжались до конца января 1917 года. - "Когда во время своей лекции я бросаю взгляд на людей, то одна половина из них спит, другая пишет, и лишь несколько человек слушают", - сказал мне однажды доктор Штейнер. Он часто призывал нас не записывать лекций. Но на этот раз его запрет стал более строгим. Конечно, и спавших стало меньше - уже потому, что говорилось о нашей современности. После одной из лекций наш столь робкий и сдержанный в иных случаях друг доктор Трапезников неожиданно решился выйти к подиуму и громким голосом задать доктору Штейнеру несколько вопросов. Прочие присоединились к нему, и вскоре все мы окружили доктора Штейнера и забросали его вопросами. Лишь около полуночи доктор Штейнер отправил нас домой, ласково сказав нам "доброй ночи!" - В опубликованные лекции вошло не все из сказанного тогда; а из последующих разговоров до будущих поколений не дойдет многое, вернее, не дойдет ничего. Внешне он чувствовал себя теперь гораздо свободнее. Этому способствовало и то, что члены Общества из западной Швейцарии просили его не обращать внимания на их симпатии: истина для них была важнее.
Последствия лекций в наших кругах были различными. Происходили бурные дискуссии, и несмотря на серьезные усилия, не всегда удавалось полностью избежать националистических вспышек, - ведь в мире бушевали ненависть и страсти. Но из России также приходили неутешительные известия. Как могла русская интеллигенция, гордящаяся своей духовной свободой, сползти в военный психоз? Как могли русские антропософы заразиться им хотя бы отчасти? Все более странными казались мне вдохновенные письма Бугаева из Москвы, где он описывал свои встречи со старыми и новыми друзьями. В одном из них он воспроизвел свой длинный разговор с госпожой Вырубовой, которая играла такую важную роль при царской семье, - однако там отсутствовало то, что вызывало у меня такой жгучий интерес
именно в современности. "Что слышно в России?" - спросил у меня однажды в столярной доктор Штейнер. "Бугаев посылает мне стихи молодых поэтов из народа. Он пишет, что в интеллигенции, а также в наших кругах пробудилось сильное стремление к мистике русской Церкви, что Церковь стала действеннее.." Доктор Штейнер недовольно перебил меня. (Я передаю только смысл его слов.) "В русской Церкви жизни больше нет. Она действует усыпляюще, тормозит развитие; там нет пути в будущее... В России будет много новых талантов, но Церковь не породит ничего значительного". Я заговорила о своих размышлениях: не следует ли мне вернуться в Россию - там можно было бы действовать в пользу мира. "Что Вы там сможете сделать?" - "Бугаев умеет писать и говорить; если я буду рядом, он станет делать это иначе, нежели теперь". - "Уже слишком поздно заниматься писанием: надо действовать. Но, кажется, к этому склонности у Бугаева нет. Если бы Вы были с ним, все было бы по-другому. Но Вам этого не позволяет Ваше здоровье. Если Вы сейчас поедете туда, то через несколько месяцев Вас не будет в живых... Когда госпожа Волошина собралась недавно уезжать в Россию, я не мог ее удерживать. Это означало бы вмешиваться в ее судьбу. Она здорова. Но поскольку Ваше здоровье этого не позволяет, я должен это сделать... Мы живем в такое время, когда надо делать все, чтобы сохранить свободу; но это время меньше всего располагает к пониманию и принятию свободы. Если бы я взял плетку и сказал Эллису, как Распутин: "ты, собачий сын, лежи у моих ног..." - он до сих пор оставался бы моим самым верным сторонником. - Распутин действовал непосредственно на волю. Это недопустимо. Но люди хотят этого. Он - именно необузданный человек, "Распутин" (по-русски "беспутный", распутник). Все, что о нем говорят, сущая правда, но несмотря на это, он - "боговидец", - а это - оккультный термин для некоей ступени посвящения. Только через него одного духовный мир, дух русского народа может теперь действовать в России, - и ни через кого другого." Эти слова навсегда запечатлелись во мне. Он мне сказал еще, что ему хочется, чтобы я осталась в Дорнахе, поскольку здесь для меня найдутся дела.
Спустя несколько дней мне приснился покойник в древнерусских одеждах на великолепном катафалке. Его лик изменялся от выражения грубой чувственности до христиански просветленной духовности. На следующий день мы узнали об убийстве Распутина... Наступил хаос.
Благодаря лекциям Рудольфа Штейнера и пребыванию возле него мы могли интенсивно сопереживать тому, что разыгрывалось во внешнем мире. Но нам приходилось в бессилии видеть, что он - тот, кто мог вмешаться и помочь - не имел для этого условий; сами мы также были неподходящими инструментами, чтобы послужить ему в этом.
Доктор Штейнер часто задерживал нас, чтобы поговорить с нами об обрушивающихся на мир событиях. Мы не ожидали, что он обрадуется разразившейся в России революции. Ошибки царизма исправить было невозможно. "Наконец Россия освободилась от этой ужасной кармы Романовых", - сказал он. - "Почему Вы повесили нос? Русские должны радоваться будущему!" Он надеялся на новый порядок в России. - Я видела воочию наступление хаоса и разрухи - то, что он сам так часто предсказывал, и лишь отчасти могла разделить его уверенность. Только позднее я поняла, что событиям - как и тяжелой болезни - надо до последнего момента противопоставлять надежду на чудо. В этом скрыта целительная сила.
Брест-Литовский мир я пережила как страшное несчастье для будущего. "Если бы людям дали трехчленность, они поняли бы ее; у них есть для этого головы", - заявил доктор Штейнер. При этом он имел в виду руководство русской комиссией. Однако его попытки донести до авторитетных лиц свою идею нового социального устройства не удались.
Однажды в начале 1918 года я встретила его утром в столярной. "Вы читали сегодня в газете обращение Вильсона с 14 пунктами? Что Вы об этом думаете?" - "Да, господин доктор; я не нашла там ни одной новой мысли". - "Ни одной новой мысли! - подтвердил он, - ни одной. Но Вы увидите, весь мир теперь присягает этому". - Больше всего он страдал от пустословия, которым часто прикрывалась ужасающая лживость.
Работа над "светотенью"
В Рождество 1916 года доктор Штейнер прервал ориентированные на современность лекции, чтобы поговорить с нами о гнозисе. Это чудесно встраивалось в длинный ряд дорнахских рождественских лекций. Как только он произнес слово "гнозис", во мне что-то затрепетало, как в тот первый раз, когда я встретила это слово в школьном учебнике и оно вызвало у меня мечты и образные переживания. В какой-то степени это предваряло будущее. Однако силы мои быстро таяли. Теперь я поняла, почему доктор Штейнер постоянно справлялся о моем здоровье. Я была вынуждена оставаться дома и следовать - через посредство доктора Фридкиной - его советам. Единственное, что мне позволили делать этой зимой спустя какое-то время, - это посещать лекции и в качестве зрителя участвовать в вечерних репетициях. "То, в чем я Вас могу упрекнуть, - сказал мне доктор Штейнер, - так это Ваша самонадеянность: Вы думаете, что можете вынести все, и не можете единственный раз вынести самого малого". Он прекрасно знал меня.
В тишине своей "больничной палаты" я пыталась разрешить вопрос: какова моя теперешняя ситуация после той бури, которая в течение нескольких лет свирепствовала вокруг меня? Совместная дорога с моим спутником жизни оборвалась. При этом ушло многое из мира переживаний в первые годы близости к антропософии. Также пребывание на людях и тяжелый физический труд в последние два года привели меня к истощению сил. Словно
стеклянной стеной я была отделена от духовных переживаний, которые все еще заявляли о себе в образах, но их реальность все реже доходила до меня. Стеклянная стена отделяла меня и от жизни. Было так, словно я находилась в каком-то светлом, прохладном мире, где некий насмешливо-издевательский голос низвергал все мои ценности. Слушать его у меня не было сил. Я была вынуждена приобретать зрелость в споре с чуждой мне жизнью. Лишь тогда я отваживалась на встречу с этим голосом. Только не мыслить в категориях тех людей, говорила я себе, для которых антропософия превратилась в арсенал догматов и постамент, с высоты которого пренебрежительно отмахиваются от остального мира...
В Здании я не могла работать еще в течение нескольких месяцев. В это время у меня появилась возможность заново обратиться к работе над светотенью в художественных образах, прерванной несколько лег назад. С детства этот мир казался мне таинственным, вызывал вопросы, которые я не умела сформулировать. С помощью светотеней я воспринимала то, что меня окружало, но прекраснее всего была сама их игра: их взаимодействие в воздушном пространстве могло заворожить, проявляясь в нагромождениях облаков, в прозрачных картинах-негативах. За всем этим можно было ощутить мир сущностей. Изучение в Брюсселе искусства гравюры принесло в конце концов разочарование. Гравюра подчиняла светотень пластическому началу и тем самым умерщвляла ее. Или же она полностью отрицала светотень, как это делает и современная живопись. Мой учитель, старый мастер Август Даше, которому было уже 80 лет, когда он принял меня, 18-летнюю девушку, в своем доме и мастерской в Брюсселе, приобрел известность прежде всего своими превосходными гравюрами со знаменитых произведений живописи, но также благодаря прекрасным портретам и пейзажам. Поэтому он поддерживая мои замыслы В этой области, которые также были признаны на выставках. Однако это не привело меня к тому, что я считала за искусство. Мешала присущая мне склонность к подражанию природе.
Теперь я попыталась в нескольких рисунках положить тени в одном направлении независимо от формы, - тем не менее так, чтобы была передана трехмерность. Получилось недурно, но я не была удовлетворена. Если бы доктор Штейнер помог мне прийти к новому способу передачи формы, основанному на светотени, свободному от зрительно воспринимаемой игры света и теней! Для освобождения от чувственно данного и в качестве исходной точки обучения, может, мне бы удалось использовать какие-то свои внутренние переживания. При этом я могла бы поддерживать отношения с доктором Штейнером, поскольку после отъезда Бугаева я больше не хотела обременять его своими посещениями.
Доктор Штейнер с готовностью пошел навстречу моему невысказанному желанию, и это положило начало нашей трехлетней совместной работе по созданию форм с помощью светотени; так для меня возник неиссякаемый источник все новых открытий. Только спустя годы я поняла, почему мир света и теней казался мне столь загадочным, - обнаруживающим и при этом скрывающим действительность. Если неуклонно следовать этому пути, то придешь к такому художественному принципу изображения, который пробудит творческое начало, свободное от представлений.
Следуя пожеланиям Марии Штейнер, я описала в своей книге, посвященной окнам Гётеанума(9), важнейшие моменты этой совместной с доктором Штейнером работы.
Итак, по воле судьбы мир светотени стал для меня естественным мостом в область духа. Позднее помощь мне в этом оказала работа над прозрачными стеклами второго Гётеанума
В зимние месяцы я настолько отдохнула, что весной меня можно было отправить к двум любвеобильным и заботливым жительницам Берна на высоту 1000 метров над Тунерским озером.
Окрепнув под зеленой сенью вековых елей, я вернулась и застала новую ситуацию. Вместе с прекрасной погодой появилось около 20 помощниц в резьбе; мы приступили к работе над мотивами цоколей. Насколько я помню, в окна Гётеанума уже были вставлены первые матовые стекла; цветные прибыли позднее.
Мотивы цоколей
В моих воспоминаниях эта работа словно озарена солнцем. К тому же я получила для резьбы именно солнечный мотив. Наше задание предстало перед нами в виде необработанной древесины. Только цоколи Сатурна были отделаны натренированной рукой, с большим умением и любовью. Они выполнялись молодым известным художником Жаком де Жагером, учеником Родена, который вскоре после приезда в Дорнах вместе с молодой женой и ребенком был похищен оттуда внезапной болезнью.
Доктор Штейнер подробно растолковал нам метаморфозу этих цокольных мотивов; но проще всего ее можно было понять с помощью непосредственного наблюдения. Правомерно говорить о трех видах метаморфозы мотива Здания: о метаморфозе в случае архитравов, затем капителей колонн и цоколей колонн. У первых трех архитравов в пространстве большого купола еще можно наблюдать переход и постепенное превращение их форм. Однако уже в четвертом архитраве ощущается могущественное вмешательство некоей силы, которая не поддается объяснению из предшествующего: словно какое-то ворвавшееся из будущего драматическое событие, она преобразует эти формы, и мы в состоянии воспринять это лишь чувством.
Но самую сильную головную боль резчикам причиняли капители. Здесь движение форм совершается не только между верхом и низом, но и в горизонтальном направлении. Конкретная форма намечает свои тенденции и исчезает, чтобы возникнуть в следующей капители на новом месте в соответствии с теми же тенденциями, воспринимаемыми только сверхчувственно. Здесь необходимы прыжки через "ничто". Наша способность к созерцанию была еще для этого слишком малоподвижной. Можно это сравнить с метаморфозой, происходящей при превращении телесных форм в одной инкарнации - в формы головы в инкарнации последующей. Напротив, метаморфоза цокольных мотивов сопоставима, скорее, с метаморфозой растений в смысле Гёте.
Поскольку доктор Штейнер не мог в лекциях говорить о цоколях, я попытаюсь воспроизвести хотя бы смысл того, что мы неоднократно слышали от него в связи с этим, - в частности, когда он водил нас по Зданию.
Возьмем первую форму (Сатурн). Она имеет тенденцию расти вверх, разделяясь на две части. Внизу она растягивается, будучи связанной с еще не оформленным основанием.
Обратим на это внимание при переходе к следующему мотиву (Солнцу). Наверху он расширяется, образуя две мощных формы, внизу соседние мотивы сталкиваются друг с другом. Между ними возникает некое возвышение.
В случае третьего мотива (Луны) две симметричные верхние формы достигли высшей точки своего развития. Дальше идти некуда. Но силой своего устремления они отделили верхнюю часть от нижней, и нижняя часть развилась также в самостоятельные формы.
В мотиве Марса с двумя верхними формами происходит некий процесс "отмирания": они делаются утонченнее, подвергаются более тонкому расчленению и передают вниз свою силу. Под давлением сверху нижние формы вновь соединяются, получив при этом тенденцию к росту.
Далее, верхние части мотива Меркурия срослись, превратившись в некую каплеобразную форму; спуститься вниз однако ей не дают нижние части. Они находятся в состоянии роста: им присуще мощное устремление вверх.
Благодаря этому порыву данная форма закрепляется наверху в мотиве Юпитера, а внизу опять разделяется на несколько мотивов, - при этом можно наблюдать их в самом истоке. Верхняя форма целиком превратилась в каплю.
В последнем цоколе - цоколе Венеры - исходная верхняя часть, сделавшись каплей, опустилась вниз; нижняя форма тоже вновь полностью стекла к основанию.
Метаморфоза заканчивается на числе семь, как в музыкальной гамме. Последующий мотив снова сделался бы первым, как в октаве.
Таков путь превращений отдельной формы. "Обратите внимание, - сказал доктор Штейнер, - на переходы, на то, что совершается между формами". Эта последняя фраза сделалась впоследствии основной причиной ряда недоразумений. Некоторые поняли ее так, что можно созерцать и художественно фиксировать формы между отдельными мотивами.
Прежде всего доктор Штейнер подчеркивал, что эти формы были найдены не на путях духовной науки, но возникли из чисто художественного переживания их превращений. Для него самого было ошеломляющим открытием то, что первая цокольная форма соответствовала негативу седьмой формы, вторая - шестой и третья - пятой.
"Возьмите, к примеру, глаз, - услышала я однажды во время осмотра Здания его объяснение метаморфозы. - У простейших животных организмов он еще совершенно примитивный, затем он постепенно усложняется, например, в случае насекомых. Однако уже у высших животных, и прежде всего у человека, он вновь делается проще; налицо своего рода движение вспять. Так душевно-духовное может вмешиваться в зрительную способность".
Моя форма цоколя Солнца встретила всеобщее одобрение, одна я отнеслась к ней критически: она напоминала мне несколько неестественно изогнутые крылья кобчика, которые на древнеегипетских изображениях обычно вытянуты в прямую линию, как у тех хищных птиц, которые и поныне кружатся в желтоватом небе Каира. "Я считаю это у себя слишком кокетливым", - созналась я доктору Штейнеру, когда он давал нам оценку. "Это неважно, данная форма отчасти уже может быть кокетливой, - ответил он. - Но Вам следует придать больше силы средней форме между двумя крыльями, дальше выдвинуть ее".
Древние, следуя инстинкту, иногда изображали превращения форм. Здесь, в случае форм Гётеанума, мы имеем единственный в своем роде процесс самой метаморфозы. К этому относится не только "свет жизни", но и "свет сознательности", - что связано с упорядочением в едином целом отдельных частей. Форма, жизнь, сознание суть три ступени мирового становления. Сознательность также обладает этими формами. Доктор Штейнер сказал по поводу мотива капель: "Эти капли устремляются сюда вниз не потому, что они должны падать подобно мешкам с мукой, но потому что они этого хотят". Однако имеются также каплевидные формы, которые, вопреки закону тяготения, несут тяжесть наверх. Мы должны изображать это прежде всего с помощью двояко изогнутых поверхностей и выведения наружу центра тяжести таких форм.
То, что в культурах прошлого пытались выразить с привлечением орнамента, используя образы природных царств - как растительные мотивы, так и заимствования из животного царства (это имеет место в искусстве северной Ирландии), - здесь, в Гётеануме, было представлено непосредственно, через три ступени развития в их изначальном единстве. Эта троица возводилась к высшему единству с помощью последовательной метаморфозы мотива по отношению к оси симметрии Здания, - впервые в истории искусства.
Постройки вокруг Гётеанума
На том месте, где аллея, обозначенная каменными столбиками, переходит в площадку перед западным порталом, мы увидели однажды врытые в землю жерди. Стало известно, что там предполагается строить дом для доктора Гросхайнца, который подарил землю для Иоаннова Здания. Рудольф Штейнер сделал модель дома, и ее надлежало изготовить из бетона. - Рядом со Зданием? Разве не следовало там разместить домик для издательства, как это было предусмотрено на модели местности? Не оказались бы мы из-за этой постройки отрезаны от наших "скал", которым доктор Штейнер придал такую красивую форму с помощью больших известковых глыб! Они образовали ступенчатый спуск, а внизу заняли обширную часть луга. Вместе с ротондой в конце аллеи "скалы" являлись новой попыткой соединить архитектуру с природой. В кантоне было спешно составлено протестующее письмо. Но доктор Штейнер заявил: "Вокруг Здания должна кипеть жизнь, - так было и в Средние века, - и я не имею ничего против того, чтобы там висело на веревке белье". Он придавал значение лишь закону Леонардо, согласно которому произведение искусства следует рассматривать с дистанции, соразмерной с его величиной. Он сам определил место для будущего дома - на расстоянии нескольких десятков метров от Здания, в конце аллеи. От меня потребовала объяснения и госпожа Штейнер. "Дело в том, что вы, русские, привыкли к большим расстояниям, - сказала она. - Господин и госпожа Гросхайнц предложили нам вначале это место для издательства, но поскольку нам хотелось более тихого уголка, они оставили его для себя. Дом издательства построят еще где-нибудь".
Другое строение из бетона уже стояло к северо-востоку от центрального здания, в ложбине неподалеку от стекольной мастерской. Этим, возможно, самым примечательным и отважным сооружением, которое когда-либо приходилось видеть, была
топка или котельная (мы обычно называли ее "Ариманом"). "Это метаморфоза основного здания, - объяснил нам однажды доктор Штейнер, - в которой оба двойных купола выступают один из другого; южная часть строения исчезла, а северная претерпела метаморфозу, сделавшись благодаря силе стремления вверх дымовой трубой".
В строгой архитектонике форм и смещенных поверхностей этого строения можно было распознать облик какого-то существа - быть может, образ сфинкса, окруженного панцирем. (Это сходство выступало еще сильнее на маленьких моделях доктора Штейнера; растянутое в длину тело впоследствии при окончательной доработке было укорочено.) Но эта архитектоника с двумя небольшими куполами на фасаде, похожими на вытянутые лапы, и высоко поднятой головой, увенчанной рогами... где я уже видела это? Почему это кажется одновременно столь неожиданно новым и при этом таким знакомым? - Подобный вопрос постоянно возникал при виде этих двух столь различных зданий. Прообраз Здания Гётеанума, полуосознанный и забытый, казалось, заново поднимается в душе из первых лет жизни в антропософском движении или из раннего детства. Но как обстоит дело с котельной? Каково ее происхождение?
Желание узнать это с особой силой охватило меня, когда однажды в прекрасную ночь полнолуния я стояла возле столярной. Внезапно исчезла картина дорнахского холма, и перед моим взором на одно мгновение вновь возникла обширная ливийская пустыня с потрясающим ликом сфинкса, а несколько поодаль в стороне - пирамида Хеопса. Незабываемая картина! Если надолго замереть перед сфинксом, - лучше всего в лунную ночь, - то можно увидеть в приглушенном свете, как почти отталкивающие черты головы эфиопа, частично отбитые и выветренные в ходе тысячелетий, превращаются в ангельский лик: сфинкс - это Ангел в оковах звериного образа, с тоской взирающий на восходящее Солнце.
"Три к четырем, - сказал тогда Бугаев, - это то, что составляет математическую основу пирамиды. Здесь, у сфинкса, это скрыто как во всем образе, так и в иероглифах черт его лица". Три к четырем выражало также пропорции обоих купольных пpoстранств Гётеанума; это было доступно для непосредственного наблюдения, а позднее подтвердилось. Однако здесь было уже не идущее сверху вниз откровение, устремленность солнечного бога Озириса в темный мир Тифона, а растущее одухотворение волевого начала Земли благодаря действию планетарных ритмов. Дохристианский носитель света, говорящий из сфинкса, также преобразился: сквозь бетонное покрытие таинственно просвечивали черты некоей могущественной, величественной сущности природных стихий, облик царя еще неведомого царства...
"Аримана, - сказал доктор Штейнер, - я полностью устранил из Здания, также и в тех случаях, когда его образ появляется там; он присутствует у нас в доме машин, в котельной".
"Группа"
В течение 1916 года Эдит Марион перебралась в две большие, заново отстроенные мастерские в южной части столярной. Одна из них, очень высокая, предназначалась для модели группы в натуральную величину. Уже летом 1915 года была изготовлена первая полная модель (примерно двух метров высотой). По-видимому, это была прежде всего работа мисс Марион, хотя модели из пластилина и общие указания принадлежали доктору Штейнеру. Ряд пробных произведений свидетельствовал о том, скольких усилий стоила мисс Марион скульптура Представителя человечества.
Изготовление модели в натуральную величину было следующей громадной задачей. Она включала в себя сооружение помоста девятиметровой высоты, который мог бы выдержан,
тяжелые массы пластилина, затем скалу из гипса для соединения отдельных фигур и наконец - бесконечно трудную работу по созданию моделей самих фигур. Несколько человек помогало мисс Марион. Надо было вчерне обработать гипсовую скалу, затем приготовить и замесить огромное количество особого пластилина. Помост был установлен благодаря добросовестности и самоотверженности молодого столяра Зондереггера, который вплоть до самой смерти посвящал Зданию все свои силы.
Несколько раз я помогала мисс Марион в качестве модели - лежа на лестнице, свесив голову вниз, а руку удерживая в положении руки Люцифера, цепляющегося за скалу. Благодаря этому мне предоставилась прекрасная возможность наблюдать за созданием группы в мастерской, как правило, строго охраняемой. Между бревнами помоста просматривались отдельные формы, напоминающие архитравы, но здесь они были напряженно сжатыми и выражали нечто существенное. Было удивительно, с какой силой и умением мисс Марион лепила отдельные фигуры. Один только центральный образ не желал для меня проясняться.
Пока доктор Штейнер совершал свои бесчисленные поездки по Германии, мисс Марион подготавливала работу для него. Но едва он возвращался и вновь начинал трудиться, словно буря разражалась в мастерской и все множество поверхностей и граней приходило в движение, вовлекалось в некое событие, выражающее сверхчеловеческую драму. Глаз больше не мог покоиться на самой прекрасной форме: он жил с ней одной жизнью, проходил сквозь нее - и сама форма исчезала, чтобы сделаться чистым движением, выражением, существом. Трагедия мировых существ - Люцифера и Аримана - противостояла здесь Богочеловеческому образу.
Однажды доктор Штейнер забрал с репетиции госпожу Штейнер и нескольких эвритмисток, чтобы показать им модель группы. "Господин доктор, группа же опрокидывается вправо, она не в равновесии", - такой была первая реакция Миеты Валлер.
Она обладала бесценной способностью свободно высказывать то, что думала, - уместно это было или нет. "Вы правы, - ответил он после короткого размышления, - для выравнивания мне надо слева еще что-то изобразить". - "Господин доктор, Вы должны рассказать нам сказку о группе", - сказала госпожа Штейнер, и вскоре мы услышали легенду о "новой Изиде". - Наверху скалы слева появилось в качестве "наблюдателя" некое существо, "которое не имеет дела с Землей. Оно пришло из Космоса и всматривается в земное событие". Иногда его называли также "мировым юмором".
Незабываем образ доктора Штейнера, стоящего слева от гpyппы на лестнице и спустя некоторое время показывающего всем нам свое произведение, - произведение, которое ни с чем нельзя сравнить. Он стоял там растроганный, как бы еще охваченный творческим порывом, в глубочайшей серьезности и при этом в полном самозабвении, - стоял в своем явном человеческом величии. Он словно хотел увидеть на нас действие своего создания. Мой взгляд был прикован к сведенным судорогой пальцам рук Аримана, воздетых к Люциферу. "Да, в этих руках сосредоточен великий трагизм, - продолжил он мои размышления, - я был вынужден многое смягчить в этих образах, иначе люди не вынесли бы их вида". Затем он заговорил об образе Христа. Христос не судит. Он только присутствует. В Его жестах нет ничего агрессивного, воинственного. Он спокойно шагает вперед; Люцифер и Ариман не в силах вынести Его близости, они сами судят себя. Ломает крыло Люциферу и заключает Аримана в золотоносные жилы Земли не Христова рука. - Оба изображения слева от центральной фигуры в их взаимодействии не затронуты импульсом Христа.
Лишь наполовину оправившись от болезни, я уехала на несколько месяцев из Дорнаха; и когда затем я вновь пришла в мастерскую, то с удивлением увидела, как сильно за это время продвинулась работа над группой. Рядом с моделью из пластилина стояли большие чурбаны из цельного дерева вяза; но более того, из древесины уже выступили все изображения. Аримана в Пещере вместе с его моделью вынесли в соседнюю мастерскую, и он стоял там почти готовый. Значительно продвинулся и падающий Люцифер; Ян Стутен с воодушевлением изобразил вслушивающиеся в музыку сфер уши второго Люцифера, снабженные крыльями. Стутену также принадлежит левая часть Аримановой пещеры, обрамленная какими-то кристаллами. Его способности скульптора высоко ценились доктором Штейнером. - Скалу обрабатывала голландка фрейлейн Хойак; "космическим существом" наверху слева занималась фрейлейн Гек. Помимо названных лиц в работе над группой принимали участие прежде всего фрейлейн Кучерова, Хольцлейтнер и моя сестра Тургенева-Поццо.
Мисс Марион взяла на себя подготовительную работу в связи с центральной фигурой. Великолепный слепок, похожий на фигуру Аполлона с красиво округленными мускулами, стоял в обрамлении обработанного до бархатистой мягкости дерева, когда доктор Штейнер вернулся из длительной поездки. "Но этот английский лорд отнюдь не мой Христос,-засмеялся он.-Мой Христос не такой мускулистый, у Него нет жира", - его железный инструмент с силой вонзился в красивую работу. - Ни малейшего следа неудовольствия или обиды нельзя было заметить в лице мисс Марион. Для нее было очевидным, несмотря на все ее художественные способности, что она лишь ученица, лишь орудие Рудольфа Штейнера.
Поскольку работы по резьбе в Здании были в некотором роде закончены, я занималась правой стороной скалы. Было наслаждением вновь энергично врубаться в дерево. Однако твердая древесина и тяжелая колотушка были признаны несоразмерными моим неокрепшим силам, и я получила задание участвовать в работе над верхним изображением Аримана - над так называемым "малым Ариманом".
"Это красивый мужчина, - подбадривал меня доктор Штейнер при работе. - Хорошо, когда безобразное изображается в его безобразии. Тогда это соответствует истине. Безобразное должно все больше и больше приниматься в расчет искусством". - "Ариман" - могущественный властелин, -сказал он также.- Он влияет, воздействует на окружение, он запечатляет себя в нем. В скальной пещере позади него следует поместить в качестве тени его профиль в негативе, а в скалах вокруг разбросать приметы возникающих там и сям черт его лица. Природа также стремится повсюду сложиться в лицо. Это ее цель. Я постоянно вижу кругом лица, которым хочется возникнуть..."
Большим счастьем для нас бывало, когда законченная заготовка перемещалась к доктору Штейнеру в другую мастерскую. Здесь он в великой сосредоточенности работал над центральной фигурой. Его руки, повинующиеся лишь внутреннему переживанию, существенно прибавляли нашим заготовкам выразительности и характерности.
Однажды я работала в мастерской доктора Штейнера. Корпус центральной фигуры уже выступал из оболочки подготовительной заготовки. "Я старался во все вносить душу, - сказал он тогда. - Древние ваяли в камне, следуя импульсам мудрости. В пластическом искусстве христианства надо пронизать теплом такой живой материал, как дерево".
Когда Здание было уже готово до такой степени, что там могли проводиться спектакли и курсы лекций, мы загорелись желанием увидеть группу полностью собранной в предназначенном для нее месте. Некоторые детали еще нуждались в переделке - ради их воздействия на расстоянии. Но мисс Марион в ответ на наше желание сказала: "Еще есть время, спешить не следует..."
Лекции по искусству
Благодаря инициативе нашего друга доктора Трапезникова состоялись с показом фотографий лекции Рудольфа Штейнера по истории искусства, что нам было особенно приятно. Доктору Трапезникову удалось прослушать их почти до конца, затем он был призван в Россию, но пошел не на войну, а в революцию. Он многое сделал для спасения культурных ценностей, которым угрожал революционный хаос; среди прочего ему удалось превратить в музей дом Толстого в Ясной Поляне.
Было нелегко в тогдашнее военное время собрать материал для лекций по искусству, и пришлось кое от чего отказаться. Какими простыми, даже очевидными были зачастую слова, комментирующие эти картины! Кто-то, пожалуй, скажет, читая их в записи: ну да, это все известно. - Конечно, то, что грек в своем пластическом искусстве искал идеальную красоту - известно. Рудольф Штейнер никогда не затрагивал самого произведения искусства: его слова вводили интуицию слушателей в мастерские творческих импульсов, где оно возникало. Мы приобщались к греческому переживанию красоты. - Сколько тепла было в его голосе, когда он говорил о Рембрандте! Словно сама картина Рембрандта присутствовала в затемненной столярной,-только воздействуя с экрана, освещенного лампочкой на пульте. Чимабуэ и Джотто, Рафаэль и Микельанджело: их действие в развивающемся духовном организме человечества воспринималось как живительные удары пульса. - Потребовались бы годы работы, чтобы представить это переживание в виде наглядной картины. Однако в этих лекциях содержались указания пути истории нового искусства. В связи с этим можно выдвинуть несколько следующих тезисов.
В свете этой истории искусства группа Гётеанума с жестом Христа "Я не сужу" представляет собой первую примету направленного в будущее художественного импульса. Мотив "Страшного суда", имеющий истоки в глубочайшей древности, воспроизводится в гневном юном Боге Сикстинской капеллы; мы можем проследить этот мотив на протяжении столетий. Выйдя из потаенных культовых мест Египта, он обернулся к улице с порталов средневековых соборов, вступил прямо в повседневную жизнь.
На главном романском портале собора в Отуне он оказывается символом порога: здесь Христос восседает на троне между блаженными и монстрами, разрывающими на части людей, - кроме того, он являет Себя в преображении астрального начала у священных оленей и павлинов, которые стремятся к живой воде. Внимательный глаз обнаружит в этих метаморфозах тезиса "Познай самого себя" те сокровенные пути, цель которых - Представитель человечества, стоящий между люциферическими и ариманическими силами. Средневековье придавало им обличье драконов и драконоподобных львов. Самые ранние из таких изображений присутствуют в мозаиках архиепископальной капеллы Равенны (Христос-воитель, попирающий змею и льва).
После победоносного шествия мотива Судии мира можно распознать первые робкие шаги нового мотива "Я не сужу" на "Тайной вечере" Леонардо, - в жестах рук Христа.
Новогодний канун 1922 года
В воспоминаниях последние зимние месяцы 1922 года покрыты особенно густой тьмой. После военных испытаний мрачные тучи, нависшие над всем миром с началом войны, не рассеялись. Мы постоянно ощущали это во время наших эвритмических поездок по большинству европейских стран. Повсюду недоверие, беспокойство за будущее и стремление оглушить себя - наперекор вопросам, на которые не находилось ответов. Ценности прошлого исчезли, а новых не было. Доктор Штейнер пытался предотвратить дальнейшие катастрофы, но сопротивление его вмешательству возрастало и даже становилось угрожающим.
Общий распад отчасти отражался и на нашей жизни. Вновь возникшие на почве нашего Общества рабочие секции вытягивали средства из центра антропософского движения. Отсутствие
сил ощущалось особенно отчетливо при попытках вмешаться в экономическую жизнь. В результате выросло беспокойство относительно финансового положения Гётеанума в будущем. Также приумножилась враждебная оппозиция, и доктор Штейнер постоянно указывал нам на ее деятельность. Все мы были в ужасе, когда он прочитал нам выдержку из одного соответствующего сочинения: "Стало быть в наличии имеется достаточно духовных искр, которые, подобно молниям, метят в деревянную мышеловку; от Штейнера потребуется некоторого благоразумия и примирительных действий, чтобы в один прекрасный день настоящая огненная искра не положила бесславный конец дорнахскому великолепию". То, что стояло за этими словами, нам, охваченным тягостным чувством бессилия, было непонятно; отсутствовала и выносливость, необходимая для защиты от надвигающегося рока. Подобное оцепенение мы переживали в первые дни войны, когда доктор Штейнер пытался призвать нас к бдительности по отношению к происходящему. Вероятно, и на этот раз он не мог бы говорить больше, чем он это делал. - Рождественские лекции, которые читались в Здании, вновь внесли в тогдашний мрак свет и надежду.
В пасмурный, сырой день я спешила после обеда в Гётеанум на эвритмическое представление. Две темные фигуры, похожие на химер собора Парижской Богоматери, свесились с парапета террасы возле небольшого помоста, установленного над южным входом. Собственно говоря, в это время на террасе уже не должно быть ни одного человека, - мелькнуло у меня в голове, но мне надо было торопиться. Длинное помещение нашей новой гардеробной располагалось на первом этаже возле комнаты доктора Штейнера и госпожи Штейнер. Тут же находилась комнатка Миеты Валлер.
В "Прологе на небесах" в первой части "Фауста" было занято около 30 человек (при этом требовалось переодевание); шел беспорядочный общий разговор. "Ребята! - воскликнула вдруг громко одна эвритмистка, - надвигается гроза, буря!" Она подбежала
к окну, чтобы увидеть наступление ненастья. "Но зимой такого не бывает, это исключено", - неслось со всех сторон; небо было однотонно серым, без малейших признаков туч. "Я же слышала - был шум, как при сильной буре!" Эвритмистка оставалась при своем утверждении.
Когда мы спустились в гардеробную, позади сцены случилось еще кое-что. Одна из наших эвритмисток вдруг подбежала к двери на террасу и попыталась открыть ее. "На террасе заперты люди, они толкались в дверь", - уверяла она. Однако дверь была закрыта, и почти никто не обратил внимания на происшедшее. Когда мы очутились внизу, вперед протиснулась Миета Валлер: "Госпожа Штейнер, не ждать ли беды? Разбилось мое зеркало. Я не понимаю, почему оно упало со стены". Еще одно предостережение. Приди к нам доктор Штейнер, как это он обыкновенно делал, быть может, он занялся бы этим. Почему упало зеркало? Что это был за внезапный шум и что делали на террасе люди? Но он не приходил, и позже мы узнали, что во время его обращения к аудитории перед началом представления платформа для ораторского пульта, на которой он стоял, неожиданно начала погружаться в люк. - Кто сильнее? Кто был сильнее? Мы, в обличий Ангелов стоящие на помосте, образуя фигуру пентаграммы, представляющие голос Господа, - или черный Мефистофель внизу, озаренный красным светом?.. Я не могла избавиться от этих пугающих мыслей. "Новый год встречают всё новые могилы": эти слова Соловьева звучали в спектакле. Потрясал драматизм "Похоронного марша" Мендельсона. Среди прочего был и хор насекомых из второй части "Фауста": "С приездом, с приездом, старинный патрон"(10) При этих словах мы должны были одновременно совершать особые прыжки и трясти головой, подключая сюда эвритмию пальцев, - это было жутко. Взгляд младенца Христа (французское рождественское стихотворение) был глубоко серьезным.
Хотя вечерняя лекция также была захватывающе интересной, я не могла преодолеть ощущения холода, жути. Неужели никто не замечает, что доктор Штейнер прилагает все усилия, чтобы сосредоточиться на лекции? Его мысли словно уходили от него. Где он был в те моменты, когда голос внезапно отказывался ему подчиняться?
Я вышла из зала одной из последних. Внизу стояло несколько кучек людей, которые показались мне чем-то озабоченными. "Кому-то надо поджечь еловые ветки", - услышала я. Мне захотелось задать им вопрос, но тут ко мне подскочила со своими новогодними пожеланиями одна из участниц нашей "группы насекомых", и это отвлекло меня.
Едва придя домой, - а жила я в первом эвритмическом доме с окнами на Гётеанум, - я захотела задернуть шторы. Но что там происходит? Над Зданием тянулась как бы бледная полоса тумана; тени людей метались взад и вперед за ярко освещенными окнами южной лестничной клетки. Я поняла, что случилось нечто ужасное, и бросилась вон из комнаты. В прихожей стояла Эдит Марион, от волнения словно парализованная; она пыталась снять с подставки огнетушитель фирмы Минимакс. Одним рывком я выхватила его из крепления и побежала с ним к Зданию.
Перед входом лежал в полуобмороке наш молодой сторож из столярной Шлейтерман, задохнувшийся дымом. Кто-то пытался ему помочь. От столярной к Зданию выстроилась цепочка людей с ведрами и кувшинами. Я не хотела присоединяться к ним. Где же огонь? Комната госпожи Штейнер на первом этаже стояла открытой и пустой, пол был весь мокрым от примененных без пользы огнетушителей, - вокруг валялось уже множество пустых. - Где был огонь? Его искали наверху в Белом зале и между куполами, - но ближе дым не подпускал. Я пошла в большой зал: празднично и тихо, полное освещение; зал и сцена были пусты.
Под деревцем перед столярной стоял доктор Штейнер и смотрел на наши действия. Возле него была Эдит Марион. Почему он не вмешивается? Почему не помогает? Позднее я узнала, что он сразу вместе с двумя свидетелями проверил распределительный щит с электрическими предохранителями и убедился, что все в порядке. Затем он вызвал местную пожарную команду. Базельская пожарная команда приехала лишь гораздо позже, и воды оказалось достаточно, чтобы спасти столярную. Наша пожарная команда Здания и жители деревни пока что пытались взять верх над пожаром; однако огонь все еще не был виден, он бушевал между стенами! Только дым усиливался.
Снова оказавшись на южной лестничной клетке, я встретила Кэте Митчер, которая вместе с рабочими выносила мебель из комнатки госпожи Штейнер. Какой-то юноша по указанию доктора Штейнера прорубал топором дыру в деревянной стене. Тут я увидела голубоватые языки пламени, которые с огромной скоростью, словно змеи, устремлялись вверх. Было ли тогда еще возможно спасение? Не следовало ли прорубить эту дыру с самого начала, уже в половине пятого, когда наши эвритмисты услыхали шум? А теперь пламя свирепствовало между стенами уже много часов. Почувствовав внезапно подозрение, я должна была вспомнить о том отверстии, которое видела за несколько дней до этого у окна в комнату доктора Штейнера. Рабочие извлекли тогда несколько бревен из внешней стены, достижимой с террасы... Не было ли здесь какой-то связи?
Все еще по-праздничному спокойны были помещения под куполами, не затронутые бедствием. Я присела в зале. Мыслимо ли, что через несколько часов от всего этого здесь ничего не останется? Только смотреть - в последний раз. Но как эти мысли, так и мое человеческое присутствие были при происходящем неуместны. В страхе я ушла.
Как и прежде, доктора Штейнера под деревцем перед столярной окружал покой. "Нам нужна вода, вода больше не идет!" - кричали какие-то неумелые помощники. Он не спеша отыскал номер телефона, по которому надо позвонить. "Лестницы,
нам нужны лестницы!" - кричали другие. "Возле стены за столярной", - сказал он. "Где я должен помочь, что мне делать?" К нему подбежал юноша, один из наших. Он молчал. "Помогите там внизу спасти модели", - сказала я. "Мне не нужно никаких моделей", - сказал доктор Штейнер, и снова повисло молчание. "Идите же", - сказала я спустя какое-то время.
Я еще раз зашла в Здание. "У нас есть шланги, но мы не знаем, где их можно присоединить к водопроводу", - сказал мне деревенский парень. К счастью, я это знала. Теперь я встретила в зале другую картину. Свет уже не горел. Наполовину освещенные угрюмыми языками пламени, которые пылали повсюду между куполами и окрашивали дым в красноватый цвет, выступали из этой жуткой атмосферы архитравы. Кое-кто пытался приставить лестницы к колоннам, но они оказались слишком короткими. "Помоги спасти занавес!" - крикнула мне одна эвритмистка, и мы вытянули разорвавшийся сверху донизу сценический занавес.
И вновь меня притянуло к доктору Штейнеру. "Господин доктор, теперь горит в зале на сцене!" - закричал кто-то издалека. "Почему никто не тушит? Почему не ставят лестниц?" - быстро спросил он. "Лестницы не достают, они слишком коротки", - сказала я. Он отвернулся.
Огонь с невероятной быстротой охватывал теперь и внешние стены. Доктор Штейнер потребовал, чтобы все покинули Здание. Жар все усиливался. Госпожа Финк, беспокоясь о стенограммах лекций, которые хранились в маленьком деревянном домике между столярной и котельной, попросила Гюнтера Шуберта принести их в Дульдекхаус. Он один не смог бы их донести, поэтому я пошла вместе с ним. Понадобилось лишь четверть часа, чтобы завернуть все тетради в шерстяное одеяло, которое мы понесли с двух сторон; однако о том, чтобы возвращаться тем же путем, уже не было и речи. Подобно гигантскому факелу стоял Гётеанум, со всех сторон объятый пламенем. Зной, как в жаркий
летний день, достиг стекольного дома, мимо которого мы несли тяжелую ношу наверх, через лесок у Бродбекхауса (ныне склон Рудольфа Штейнера). Жара в Дульдекхаусе казалась все еще опасной; мы понесли драгоценный груз дальше - в Дом-убежище, где у моей сестры была комната.
Темно-красный жар стоял над ночной тьмой. Как при закатном освещении, краснели вокруг холмы и руины Дорнека. Тысячи зевак из Базеля и его окрестностей напирали на изгородь, окружающую территорию Здания; на саму территорию вход был запрещен. В молчании, словно зачарованные, взирали они на грандиозное зрелище танцующего, взвивающегося высоко в небо огня. Несколько паровых пожарных труб выбрасывали мощные струи воды на стены столярной, где еще недавно под деревцем стоял доктор Штейнер. В эту ночь обгорела половина этого деревца, и впоследствии оно стояло в течение нескольких лет с голыми ветвями.
Мы нашли доктора Штейнера стоящим на лестнице перед Ягерхаусом; его окружали члены Общества. Полночь миновала, и в первые часы нового года огонь начал несколько ослабевать. Толпа зрителей постепенно редела, ушел и доктор Штейнер. Теперь можно было снова заносить в столярную все то, что было убрано оттуда. Статуя Христа также была перенесена из мастерской на луг позади строения. Вновь можно было заходить на территорию. Глубокая синева окружала холм, пожар сделал свое дело. Только раскаленные массивные стволы колонн с двойным кольцом архитравов наверху вырисовывались на ночном небе. Незабываемая картина, исполненная ужаса и красоты! Эти прозрачные, прокаленные формы как будто были пронизаны пульсирующей жизнью и дыханием; то было как бы прощание с Землей, на которую на столь короткий срок было спущено Здание. Высоко над ним простирался небесный свод, - родина, куда оно возвращалось. Позади него на западе - красноватая полоса, отблеск возвещающего о себе на востоке дня.
И вот уже под тяжестью архитравов стало проламываться двойное огненное кольцо, обрушиваясь в виде раскаленной массы к подножию колонн. Стоя возле столярной, я могла видеть, как две тени в темноте медленно шли по дороге в гору. Доктор Штейнер в сопровождении Эдит Марион, тяжело ступая, согнувшись, вошел в столярную. Он был при госпоже Штейнер в Доме Ханси; из-за больных ног ей пришлось переживать пожар издалека, наблюдая его из окна.
Доктор Штейнер настойчиво потребовал, чтобы продолжалась та работа, на которую не повлияло случившееся; но многое должно было произойти, прежде чем для этого была отремонтирована столярная. Когда я заглянула в мастерскую доктора Штейнера, там еще царил полный хаос. Он стоял посреди нагроможденной вокруг мебели, сундуков. Он повернулся ко мне. В его широко открытых глазах не было ни малейших признаков озлобленности из-за пережитого,-только бесконечная боль и печаль.
"Почтенные, мудрые...": до этих слов дошел в своей приветственной речи Ангел из "Действа о трех царях"; затем голос отказал ему. Напрасно пытался он начать заново, - и тогда он тихо заплакал и стоял, опершись на свой посох, пока не нашел сил продолжать. - Во время вечерней лекции все, не сговариваясь, встали, когда доктор Штейнер вошел в зал столярной.
Столярная вновь сделалась на годы нашим рабочим местом.
Когда через несколько дней раскаленная зола остыла, в ней нашли человеческий скелет с изуродованным позвоночником. Такое же уродство было и у часовщика, исчезнувшего с момента пожара. Официально было признано, что он погиб при спасательных работах.
Страховая сумма была выплачена на основании того, что в ночь пожара доктор Штейнер установил: все предохранители были в исправности. Однако доктор Штейнер обратил наше внимание на то, что первое Здание было построено силой любви и жертвы. Если бы постройка была доведена до конца, Здание
излучало бы мир. Во второе здание мы внесем с деньгами страховки человеческую ненависть...
Юношески веселый смех, который раньше часто освещал строгие черты лица доктора Штейнера, его быстрые, легкие движения, его ритмичная походка (никто не умел ходить так, как он) - ничего этого после ночи пожара мы уже не видели. Тяжкая ноша легла на его плечи. Ему надо было прилагать усилия, чтобы сохранить свою прямую осанку, и его походка сделалась напряженной. Но его влияние и сила духа в последний период жизни возвысились до сверхчеловеческих масштабов.
Последние месяцы и дни земной жизни Рудольфа Штейнера
В сентябре 1924 года доктор Штейнер выступал перед священниками Христианской общины, актерами и врачами. Также продолжался цикл лекций для рабочих Гётеанума. За три недели состоялось около 70 лекций. Кульминацией его земной деятельности стало еще одно невероятное излияние духа. Затем он заболел. В первые дни он оставался в своей мастерской в столярной. Одна за другой следовали тревожные недели. Объявления о лекциях все вновь и вновь стирались с черной доски, но о его болезни узнать можно было немногое. Вот сообщили о лекции на Михайлов день. В столярной была тишина, когда доктор Штейнер вышел из-за голубого занавеса. Каким он стал хрупким и уязвимым! Его голос звучал совсем иначе, было впечатление, словно из бесконечности приходил золотой звон. В его словах ощущалось одно лишь сердечное тепло, но это тепло исходило уже не из наших земных пространств. Будучи как бы извлечен из них, он должен был напрягаться, чтобы проникнуть к нам. В эту прохладную осеннюю ночь столярная, благодаря его словам, была пронизана солнечным светом и теплом, как в жаркий летний день.
Скоро ему пришлось прервать лекцию. Мы поняли, что наступило прощание; но кто решался подумать об этом? Вскоре после того состоялось и личное прощание с нами. Мы, эвритмистки, собрались за сценой после вечерней репетиции. Все находились в угнетенном состоянии, и никто не хотел идти домой. Тут мы услышали издалека голос доктора Штейнера, необычно громкий и твердый, непреклонный. Его шаги, которые прежде звучали столь ритмично и легко, сейчас были словно свинцовыми. Он вышел из мастерской к нам в сопровождении нескольких человек, - кто это был, я не заметила. Каждое движение, каждый шаг словно направлялись извне, волевым усилием. Я не знаю, глядел ли он на нас. Мы застыли на своих местах. Он сказал, что идет в Дом Ханси и там о нем позаботятся; держась чрезвычайно прямо и внутренне собранно, он стал протягивать руку каждому из нас и говорить "до свидания". Затем он повернулся и вышел. Больше я его в живых не видела. - Через несколько дней мы узнали о том, что госпожа доктор Вегман организовала уход за ним в мастерской при столярной. Госпожа Штейнер была в тот момент с эвритмической группой в Германии.
Поездка в Бельгию, потребовавшаяся мне, протекала бы по-другому, если бы все мои помыслы не оставались в Дорнахе. Еще перед отъездом мне приснилось, что доктор Штейнер меня настойчиво предостерегает от встречи с теми людьми, которые в 1912 году стали причиной нашей поездки в Кёльн. И я их не встретила. - Старые и новые друзья приняли меня любезно, и я отправилась работать. Мой дорогой старый учитель Август Данзе (теперь ему было за 90 лет), пожалуй, признал меня, но пустился в воспоминания о моем обучении у него несколькими десятилетиями ранее. Гравюры на окнах он находил "drоle"(11) и говорил, что то, что я"танцую", ему непонятно.
Меня приветливо приняли его дочь и ее муж Жюль Дестре. В то время он был министром. Однако то, что я всю войну провела под немцами, создало между нами барьер. Он прочитал книгу Рудольфа Штейнера о "Трехчленности социального организма", которую я посылала ему, - но сказал, дескать, что с этим делать? - Поработав несколько месяцев, я уехала обратно.
"Вы стали настоящей бельгийкой!" - встретила меня в столярной госпожа Штейнер, когда я шла к доктору Штейнеру. Если бы я могла хотя бы передать ему привет через нее!
Снова потянулись тревожные недели и месяцы. Когда он поправится? Поправится ли он вообще? Он ведь не может умереть, он ведь должен дожить до глубокой старости! Будет ли нам дано вторично оказаться в столь же интенсивном духовном потоке, что мы уже пережили? Может ли такое повториться?
После пожара молодые люди организовали охрану, задачей которой было стеречь днем и ночью столярную и территорию. Теперь они в первую очередь заботились о том, чтобы мастерская была закрыта для посещений. В одном из углов мастерской устроилась госпожа доктор Вегман, чтобы быть наготове в любой момент. Часто приходил доктор Шиклер, посредник между ней и клиникой. Видели, как он в окружении охранников вместе с ней спешно проходит через столярную. У доктора Нолля также была маленькая комнатка возле мастерской, но его видели редко.
Слухи, которые распространялись среди членов Общества в связи с болезнью доктора Штейнера, побудили его высказаться на этот счет в "Листке сообщений" от 19 октября 1924 года:
"... Мне бы не хотелось, чтобы мое физическое состояние сделалось предметом всевозможных домыслов. Дело в том, что хотя я полностью справлялся с лекционной деятельностью, которая в последние месяцы столь расширилась, но мне пришлось перенапрячь лук своих физических возможностей из-за тех чрезмерных требований (помимо чтения лекций), которые исходили из среды членов Общества. Это привело к тому, что сейчас мне по силам любая полноценная духовная деятельность, но в физическом отношении я не способен даже и к малейшему..."
Наступило Рождество - с рождественским деревом, но без свечей. Рождественские спектакли - но без лекций Рудольфа Штейнера. Между двенадцатью и часом было время, когда госпожа Штейнер навещала его. Она всегда шла в одиночестве, и это было нелегко при ее больных ногах. Однажды я встретилась с ней, ее лицо было залито слезами. Я попыталась улизнуть в сторону, но она заметила меня. "Слишком любопытная", - улыбнулась она сквозь слезы и дала мне легкий щелчок своим тонким пальцем. - Мы слышали, что госпожа Штейнер в последнее время намеревалась забрать господина доктора назад в Дом Ханси. Но несмотря на свои страдания, он хотел до конца оставаться в столярной... Было ощущение великого трагизма, втайне разыгрывающегося здесь, - и не только из-за его болезни. - Примерно в конце февраля госпожа Штейнер снова уехала в Германию с эвритмической группой. Мне было жутко из-за этого отъезда. Эвритмистки вернулись обратно. Но ее в Штутгарте задержали обстоятельства, связанные с Обществом. Обладая железной волей и величайшим самоотречением, она стремилась довести до конца дело, порученное ей доктором Штейнером.
29 марта 1925 года, воскресенье. Попросили не аплодировать во время эвритмического представления, доктору Штейнеру нужен покой. - Но ведь было сказано, что ему лучше? Что он вскоре снова начнет работать на моделью Здания?
На сцене шла постановка космических хоров Ферхера фон Штейнванда. Я забилась на кушетку в "Золотом человеке", плакала и не могла остановиться. Макс Шурман, проходя мимо, спросил, почему я плачу. Я не знала почему...
В столярной стояло маленькая заготовка из дерева в форме нового здания, предназначенная для разработок доктора Штейнера(12). Урна для праха Рудольфа Штейнера! Как я могла прийти к этой чудовищной мысли?-Лишь позднее я узнала, что Альберту Штеффену при виде этой модели пришло в голову то же самое.
Гнетущей, тяжелой была последняя ночь. Долго передо мной стоял черный крест. Примерно в половине первого я услышала шорох за дверью. Открыв ее, я увидела, что там стоят и смотрят на меня госпожа Ильина и ее сестра. "Доктор?" - спросила я и снова закрыла дверь.
В столярной все оставалось по-старому, но не было ни души. Через некоторое время я встретила сестру, и мы отважились войти в мастерскую. Там тоже никого не было, кроме доктора Штейнера: на постели возле статуи Христа, - лик в профиль. Резкий дневной свет, заострившиеся черты лица, сложенные руки. Таким он мог быть и во сне. - Постичь тот факт, что его уже больше не будет с нами, сознанием было невозможно, - понималось это только чувством. - Мы долго оставались одни; затем к нам присоединился еще кое-кто из друзей.
Около двенадцати часов автомобиль с госпожой Штейнер въехал на гору и остановился у столярной. Доктор Нолль вышел навстречу и открыл дверь автомобиля. "Почему Вы мне не сообщили? Я была уверена, что Вы сделаете это...": такими были первые, полные боли слова, которые произнесла, выходя, госпожа Штейнер. В душе она знала, что произошло; она почувствовала это в пути, а по прибытии узнала обо всем в Доме Ханси.
Через несколько часов я снова пришла в мастерскую. Теперь все было иным. Рудольф Штейнер, озаренный мягким светом свечей, покоился в затемненном помещении на катафалке перед статуей Христа, и его лик был обращен к входящим. Справа в полутьме можно было рассмотреть Альберта Штеффена, доктора Ваксмута и доктора Вреде. Возле них в тени - госпожа Штейнер. На небольшой кушетке у входа - госпожа доктор Вегман.
Теперь мы оказались перед фактом: Рудольф Штейнер умер. Но это слово не годилось для него. Теплая жизнь овевала эти
помолодевшие черты, нежно освещенные мягким свечным сиянием. Его окутывало белое одеяние, выделялись лишь темные волосы. Покой, исходящий от него, не был смертным покоем, - это не было и сном. Он внимал... и задавал вопросы. - При жизни его часто воспринимали как совесть, и совесть пытались иногда отклонить неуместным в его присутствии поведением. Происходила как бы беседа с глазу на глаз, которая обрывалась и вновь возобновлялась. Но последнее слово всегда оставалось за ним. Теперь каждый стоял перед ним со своей совестью, и он с бесконечной кротостью предоставлял всем свободу действий. - Когда я повернулась к выходу, то увидела просветленный, прекрасный лик госпожи Штейнер, взирающий на нас из темноты. Было такое впечатление, что она вобрала в себя все, что было пережито другими. Только она встала над смертью.
Несмотря на увеличивающийся поток посетителей, я еще не раз заходила в мастерскую. Можно ли было расстаться с ним? Всякий раз он менялся. На третий день он был надмирно прекрасным. Одна любовь выражалась в его чертах. Если припомнить игру солнечных лучей в цветных стеклах окон Шартрского собора, то возникающее при этом настроение отчасти сходно с тем, которое было у нас в этот третий день. На четвертый день к его выражению лица добавилось нечто энергичное, почти строгое и одновременно отстраненное. Друзья сняли с него посмертную маску.
Между тем мастерская была переполнена людьми, которые желали проститься с ним. Священник Риттельмайер должен был отслужить панихиду. За сценой эвритмистки сшивали черные платки для похоронной церемонии. Они любезно уступили мне место, чтобы я тоже могла потрудиться для господина доктора. Но моя манера шитья им не понравилась, и после извинений меня отстранили. Я заглянула в зал. На сцене фрейлейн Гек в отчаянии пыталась привести в порядок множество принесенных цветов. Она с облегчением уступила мне свое дело; размещать на
сцене цветы в соответствии с их окраской и величиной было приятной работой. Через некоторое время взглянуть на это пришла госпожа Штейнер. Ее истощенные силы явно освежились при виде такого цветочного моря: в этом зрелище было нечто животворное. Она долго сидела там в молчании. Затем вмешалось ее чувство прекрасного. Она потребовала от меня убрать из цветов все свернутые ленты с надписями. После этого я должна была прикрыть черным шелком белую раму, в которой находился образ Христа из Бреры в Милане: его распорядилась вывесить Христианская община. Теперь госпоже Штейнер мешали красивые серебряные подсвечники: должны оставаться одни цветы. Я побежала в мастерскую и нашла там два сосуда с красными розами. Подсвечники обвили ими, и это успокоило госпожу Штейнер.
Вечером состоялась похоронная церемония. Альберт Штеффен в своей речи упомянул о том, что на похоронах Фомы Аквинского вместо надгробных песнопений церковный хор запел "Осанну"; сколько света это замечание внесло в обряд!
На следующий день состоялась кремация и перенесение урны с прахом Рудольфа Штейнера в мастерскую. - Процедура сопровождалась упущениями, недоразумениями. Темные тучи собирались над нами, - а издали грозно надвигался еще больший мрак. Накапливались грехи и ошибки, но благодаря лучшим силам работа кое-как двигалась дальше.
Примечания
1. По-немецки здесь игра слов: Tram - трамвай; Traum - сновидение (прим .пер.).
2. Т. е. совместное причащение католиков и православных. -Прим. пер.
3. Счета в канцелярии Здания, датированные летом 1914 года, подтверждают, что эта техника для шлифования стекол тогда уже применялась в Дорнахе, - факт, часто вызывающий сомнения у специалистов. - Прим автора.
4. Эвритмия. Воспоминания из эпохи 1912-1927 гг. - Прим автора
5. Она вышла в 1915 году в московском издательстве "Мусагет" под псевдонимом "Вольфинг". - Прим. автора.
6. Перевод Б. Пастернака.
7. Перевод Б. Пастернака.
8. Подстрочник.
9. Наброски Рудольфа Штейнера для стекол окон Гётеанума. Дорнах, 1961.
10. Перевод Б. Пастернака.
11. Забавный
12. Речь идет о модели для внешней архитектуры здания, а не для внутренней, как позднее утверждали. Специалисты сцены и компетентные органы потребовали изменить высоту крыши, и доктору Штейнеру пришлось подумать в первую очередь о новой внешней модели. Позже это подтвердил мне архитектор Айзенпрайс.
Новалис, 2002 — 138с, иллюстрации.
ISBN 5-86951-031-7