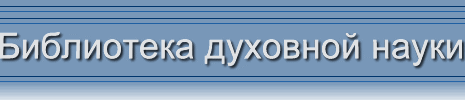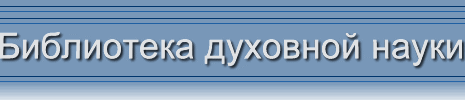***
Мы с тобой не поладим, прости,
Плюс и плюс притянуться не смогут.
Я катаю орехи в горсти,
Без тебя собираюсь в дорогу.
Мы похожи, но все это зря:
Кто-то должен быть слабым и гибким,
Чтоб проплыть долгой жизни моря
Парой в лодке резиновой, зыбкой.
А у нас - я предвижу финал -
Было б все как в плохой мелодраме:
Кто-то дверь бы ногами пинал,
А другой - перебрал миллиграммы.
Мы б достали друг друга до дна
Ядовитыми рифмами злости.
Перспектива, как видишь, одна:
Не собрали б друзья наши кости.
Два безумия вызовут гром,
Сердце ранят Нарциссы умело,
Не поможет адонис-бром,
Заведут в уголовке "Дело".
Не поймешь, кто виновен, кто прав,
Кого сечь, а кого и повесить.
Трудно, хрупкую душу поправ,
Вновь мириться, любить, куролесить.
Вдруг покажется: можно пропеть
Наш дуэт гармонично и чисто.
Нам так много здесь нужно успеть,
Но не дремлет коварный Мефисто.
Он под локоть тебя подтолкнет,
Мне нашепчет с три короба просто,
В мозг отравленный дротик воткнет,
Взгляд затянет отвратной коростой.
Снова правды посыплется соль,
Снова ужас и тьма на пороге…
Нет, мотаю всю пленку на ноль,
Без тебя собираясь в дорогу.
***
Праздное желанье -
Вис на турнике.
Агнец на закланье
В медном колпаке -
Это я без грима,
Смейтесь, господа!
Пленница экстрима
В небе навсегда.
Прыгай на батуте,
Сделай кувырок,
Спой "Cosi fan tutti" .
Нет? Тогда - хард-рок.
Путь к себе дворами,
Нет бы - напрямик.
Риск, баланс на грани,
Не с чего - так с пик.
Обнуленье счёта,
Счастье налегке.
А напарник - вот он,
Тоже - в колпаке.
Звонче, колокольца!
Мы идём по миру!
Дураки, но в кольцах,
Босяки, но с лирой.
***
Увы, я не Рубина, не Губерман,
фамильное прадеда имя Жуман,
а "ова" мозолит глаза красной тряпкой
кумыс-патриотов толпе. Зыбко-зябкой
фигуркой не к месту и времени стать
свезло так свезло мне - на русском писать
и думать. Тасуя кириллицы мелко-
зернистые буквы, мечусь я как белка,
что выхода из колеса не имея,
к инфаркту близка, и удавка на шее
ей кажется благом, но где катапульта,
что вытолкнет, не доводя до инсульта
беднягу, что рвется на части конфликтом.
Союза Советских нелепым реликтом
ей быть суждено, и таких как она,
"шала-казактар" именует страна.
Мы учим язык свой, отобранный гнусно,
но он остается вторым, как ни грустно,
а горб застарелый, великий, могучий
исправить сумеют загробные тучи,
прикрыв полумесяцем странную суть
разъятой души моей. Скользкую ртуть
залейте мне в горло, осиновый кол
забейте меж ребер, смертельный укол
введите мне в вену, чтоб наглухо стих
в гортани неверной предательский стих…
Евреям завидовать - жалкая доля,
у них, богоизбранных, сладкий пуд соли,
а мы на родной земле, словно в гостях,
откуда сбежать бы, да некуда. Страх
пред завтрашним днем, без гарантий от фирмы,
торгующей телом страны - и без ширмы,
у всех на виду, напоказ всему миру,
и вдребезги мне разнести свою лиру
пристало, чем трону угодливо плесть
в паучьих извивах рифмованных лесть…
Игра по правилам или "ГИП-ГИП, ура!"
Не суждена карьера журналистки,
и ни к чему отточенность пера:
писать красиво - мало, нужен стержень
и ловкая повадка пофигистки,
без задних ног и мыслей до утра
храпеть способной, как бездумный шершень,
жужжащий день за днем о надоевшем
без устали, без памяти стыда,
рефлексом безусловным вечно движим.
Ушла, в терновнике пичугой спевшей
песнь краткую, но славную, когда
с коллегой тесно подружилась рыжим.
(Вернее, русым - уточню дотошно,
он замредактора теперь и спутник мой).
Но в теме остаюсь, дыша неровно
к газетной свистопляске заполошной,
и, бултыхаясь, в общем, за кормой,
пишу лишь изредка, уже бескровно,
не тратя нервов, с наслажденьем просто,
хотя и в тон официальной прессе -
лукавя через фразу или слово.
Не скинуть чешуи мне до погоста,
и прозвучит в заупокойной мессе,
что счастья не познала я иного,
лишь слово за слово цеплять дано мне.
А как взбрыкну - муж быстро отрезвляет
аргументированной гладкой речью:
"Ах, дорогая, я прошу, запомни,
что аббревиатура составляет
"ГИП", - и летят слова в меня картечью:
- "Г" - государственная (всё понятно),
"И" - информационная, а "П" -
политика - вот чем живет газета.
И, как в химчистке затирают пятна,
иль новый флок в обтяг на канапе,
иль безнадежных прочь из лазарета -
вот так же фильтровать базар должны мы,
и слога красота - на заднем плане,
а первое - "ГИП-ГИП, ГИП-ГИП, ура!",
и если принципов крепки зажимы,
тебе вольготней в Интернете станет:
он - прессы завтра, ну а мы - вчера".
Пескарь премудрый, человек в футляре!
Блюди свой "ГИП" - и сядешь в кресло шефа!
А мне болтаться до конца, как видно,
меж берегов, и кипятком ошпарив
микробы правды, полукривды шлейфом
довольствоваться, слогом безобидным
овладевая медленно, но прочно.
Нет критики, а есть PR, реклама.
Критиковать - пожалуйста, на кухне.
Вот так, у берегов канавы сточной
среди отбросов, мусора и хлама,
покуда свет в глазницах не потухнет,
мы фабрикуем новую реальность.
И если журналистика - искусство,
то приукрасить жизнь - ее задача.
Но, погрузившись в эту виртуальность,
испепелив внутри живое чувство,
веселый смех услышишь вместо плача.
Что ж, выбор за тобой жизнь оставляет:
играй по правилам или отринь игру.
Глянь, на скамейке штрафников, в сторонке,
бескомпромиссность глупо прозябает.
Стыдливым рыльцем к пуху и перу
приклеена я сплошь до самой кромки,
и тщетны споры с пагубным пристрастьем -
словесный пазл мне мил, и с ним грешу
напропалую, прочь отбросив гири
весов правдивости. И хоть не в масть я,
всё ж остаюсь в игре и ТАК пишу,
как грезит опытная мышь о сыре.
Фемина
"Образование ума не прибавляет", -
так Костоглотов Дёмку наставляет.
"А что же надоумит?" "Только жизнь".
И этой азбукой я задубила шкуру,
в дугу согнув линейки прямоту,
ораторство сменив на немоту
и внешнюю бесстрастность. Серый слизень
неуязвим, словно тибетский гуру,
а глупый махаон летит в сачок
и получает вечный "незачёт",
не в силах одолеть букварь несложный.
Ты - женщина? Коварства партитуру
штудируй день за днем, за часом час,
не путай голоса и слушай бас -
фундамент бытия. Почувствуй кожей
замысловатый ритм фиоритуры.
Наивные реснички, чистый взгляд,
улыбка ангельская, слёзок водопад
и хитрость зверская, животное чутьё,
диктующее, чем и как рулить:
кому помочь, а позже - нитки дергать
марионетки новой, этой - дёготь
на имя честное, и не своё бельё
потряхивая, сплетнями давить
возможных конкуренток - вот таков
образчик женской "мудрости". Плевков
для той не пощадят, что невпопад,
ни в лад, ни в склад - не в унисон с другими.
Курятник гаже тем, чем меньше он:
иерархическая лестница - закон,
решающий, кто прав, кто виноват,
кого клевать, кого считать своими.
Распределять подначки и тычки
то в грудь, то в спину. Кислотой - в зрачки,
иль прищемить чужой подол "случайно",
стекольный порошок - товарке в бутерброд,
горячей плойкой невзначай ожог,
и надпилить каблук в гримёрке, в сапожок
пристроить кнопку, и презенты "made in China",
в оптовке взяв, дарить на Новый Год.
И будучи присяжной, пожалеть
насильника, посаженного в клеть:
"Он молод, мил, ему любая рада!
Истица ж - профурсетка, прости, боже.
Несовершеннолетняя? Так мать
куда смотрела, росомаха? Спать
поменьше нужно, бдительней быть надо!
Ах, бедный парень, жаль его до дрожи!"
Углы считая лбом, привыкнешь к темноте,
поймешь: друзья - не эти, и не те.
В чулане крылья спрятав, поползешь
покорно, обреченно, в поле минном
опасливо оглядываясь, впредь
высматривая взрывчатую сеть.
И заслужив у жизни жалкий грош
за прилежанье, с тем уйдешь, фемина.
Стриптиз
Поздне-осенний стриптиз - шоу не из приятных:
тощие руки ветвей вихрем мечутся в танце,
старческая обнаженка введет в эстетический ступор
даже геронтофила. И кажется глупым,
что календарные сроки поправ, реверансы
делает дама нагая в пигментных пятнах
листьев, полуразмазанных на тротуаре.
Подзадержался в дороге декабрь-филантроп,
лишь бандерольками изредка снег посылает.
Дряхлую немочь прикрыла и, сдержанно-злая,
медлит со сцены уйти, обновив гардероб -
яростно треплет подолом в последнем угаре.
И прекратить поскорей зритель мысленно просит
зрелище осточертевшее, и за кулисы
взгляды бросает, ведь следом черед "Белоснежки" -
юной танцовщицы. Спорит (орел или решка),
сколько еще наблюдать за агонией лысой,
старой, постылой кокотки по имени "Осень".
"Где ж ты, пушистая, мягкая? Сводишь с ума,
нас ожиданьем томя на пороге танцпола,
номер твой снежный гвоздем засвербит, па де шаль
дивный смотреть бы весь век, со слезой, не дыша".
И, отодвинув плечом дребезжащий осколок
Осени, на авансцену ступает красотка Зима.
Жизнь-мозаика
В дочь степей или в дщерь лесостепей
не Амур, не Гермес, не Асклепий -
Аполлон, не щадя междометий,
запустил роковую стрелу.
Взорвалось, понеслось, заискрилось
слово, впавшее ныне в немилость,
время, место и действие слились,
жизнь поэта вплетая в канву
деспотии восточного типа,
где о правде - вполшепота сипом,
где медок с резким привкусом липы,
где с ушей не стряхнуть "Доширак".
Где в снегах малой родины скромной
можно многое, только укромно,
где с двуглавою пастью огромной
правят бал сатана и дензнак.
Вместо сфинксов, колонн, знаменитостей
здесь панельные блоки - избитости
архитекторской мысли, и в сытости
теплых гнездышек спит мещанин.
Кто-то там, на Луне иль Сатурне
лоскутки собрал разнофактурные
в вечном хаосе божеской урны, и
сбросил вниз образец мешанин.
Вот судьба - нескладёха-мозаика:
составляю и тихо дерзаю, как
лягушенция в сказке прозаика,
не желавшая камнем на дно.
Три струны на орфеевой лире,
мне Марина и Белла с Земфирой
шлют привет полуночным эфиром:
"Не грусти, мы с тобой - заодно".
Круг в квадрате так масляно светится -
лунной ночью заметней нелепица,
верю, дольки мозаики сцепятся.
Втихаря пригубив хванчкару,
в уши вставив любимого Листа, и -
узник слова, как в Иф - Монте-Кристо, я
напишу сорок строчек неистовых
о себе на Стихи точка ру.
Февральский пленэр
На носу с горбинкой, псевдоримском профиле
фебруарий. Жаль, не мы - богатыри,
что не нам чета, пропели (или пропили?)
холод, слёзы, безнадёгу. В пузыри
мыльно-радужные, жидкостно-стеклянные
обращается бесснежный месяцок,
унося в иные призрачные страны, и
торопя стенных часов копытный цок.
Горизонт кичится дивными туманами,
а для нас достанет дыма местных труб,
чьи ошмётки через лес, над автобанами
поплывут как посвист нежный стылых губ.
Авангардная художница-котельная
прокопченной кистью машет на заказ
по холсту того, безмолвно-запредельного,
кто придумал халцедон и хризопраз.
Соблюдая вехи внутренней инструкции,
глаз один закрой, другой в прищур сожми,
и раб лампы - лысый, крепкой конституции,
заклубится. Ты ведь помнишь, как детьми
все проделывали что-нибудь подобное?
Взрослым, правда, эти фокусы не впрок,
зачастили наших судеб капли дробные,
да скукожился шагрени лоскуток.
Перепонками владея абсолютными,
успокоишься: архангел Гавриил
не трубит пока. Ты спой, а сверху лютнями
подыграют те, кто дву- и шестикрыл.
H2O стакан и капля купоросная -
акварели неба фоновый колор,
и вот-вот весна взашей погонит злостную
неплательщицу, но та дает отпор.
Выворачивает сумку - мелочь брызнула,
из карманов - манка, белая крупа.
Умоляет о пощаде, просит сызнова
всё начать. Стара, прилипчива, глупа.
Твои ходики прошлёпали-прошамкали,
снежный долг погасишь в будущий сезон.
Сноуборды ли, подлёдную рыбалку ли
предлагать уж поздно, да и не резон.
Сбереги их в подземелье замороженном,
налепи больших снежинок для н/з.
Видишь, сменщица босая растаможила
насморк, авитаминоз и ОРЗ.
Ни в полях снег не белеет, ни тем более
на асфальте - значит, нечему шуметь,
но привычно отступает меланхолия
в мозглой оттепели и капели средь.
Угол зрения
Не греет центр солнечной системы,
но в полдень уж не взглянешь без ресниц.
Всевышний не спеша зачистил клеммы,
а правоверный, припадая ниц,
ему который раз в любви клянется.
Ну что ж, любой полезен моцион.
Один - по Иванову - у колодца,
другой - урину вводит в рацион.
Из геометрии немного да из оптики
припомним, сузив влажный "окуляр" -
теперь вполне съедобны жизни ломтики,
хоть клык неймёт, раскусит премоляр.
Зависимость прямая: вы под градусом
каким воззрились, под каким углом
на лавочки, перила, банки, пандусы,
людей, собак, застывший водоем.
Поэт, любитель городских шатаний,
нечетко фокусируй мутный взор,
на сущее гляди без притязаний
(так в глюк уходят, слопав мухомор).
Бредет, качаясь, ложных солнц тропою
Джек Лондона заснеженный типаж,
иль то рыбак над мёрзлою Копою
влачит свой ледобур в пустой гараж?
И сквозь решетку сирых два невольника
по-разному тоскуя, смотрят розно.
Определись - Дантес или Раскольников?
Кто видит грязь, а кто - луну и звезды.
Колыбельная
Второй год декрета, и не скоро лето,
дача, воздух, река, облака.
Я сижу с ребенком, ползунки-пеленки,
тазик, блендер, пи-пи, ка-ка.
Центр всей Вселенной обдирает стены,
тычет пальчик в электроразъем.
Спит с котенком из плюша, любит музыку слушать,
день-деньской мы одни, но вдвоем.
Ночь, зима, эклога. Спи, моя берлога.
Подежурим, букридер? "Bien sur".
Лао-Цзы, Марк Аврелий, нет вам равных в постели,
мысли рысь переходит в аллюр.
Я никто. Просто мама. Чту Омара Хайяма
да иных виршеплетов сонм.
И мой жемчуг - мелкий, жидок суп в тарелке,
беспокоен предутренний сон.
Под окном - "Приора", а в окне Аврора -
не корабль, богиня зари.
Рядом Тенгри с лучами головою качает:
"Эй, подъем, загасить фонари!"
Как ядро с вакуолью, я не чувствую боли -
ее просто-напросто нет.
Смысла жизни поиск - Sic-transit` ный поезд -
ни догнать, ни купить билет.
Все окей, зер гут, зеркала мне врут,
амальгаму стыдом не выест.
Это генный код щедро фору дает
и бросает в нагрудный вырез.
Муж - не уж, свезло, с ним комфортно зело,
мы как минус и плюс двух магнитов.
В сентябре - снова в бой, но покуда, my boy,
эта тема тобою закрыта.
Будет каша из манки и прогулка на санках,
телефон, телевизор, компьютер.
Будет жаркий очаг, будет радость в очах,
будем мы - твои фатер и муттер.
***
"Я завидую ей - молодой…"
Б. Ахмадулина
Я знаю, это слабости клеймо -
упрёк судьбе бросать в лицо без грима,
когда пути-дороги вбок от Рима,
и выю гнёт совсем не то ярмо,
с каким в полях Элизиума пашут,
и за бесценок всучен старый плуг,
как знак бессилия. И линзу Левенгук
подсовывает поздно. Щи да каша
и крошки ростбифа фортуны от щедрот
перепадают. И кому-то пышки,
а шишки все тебе - ешь до отрыжки,
да не зевай, не то потонет бот
дырявый. Руль, ветрила, где вы?
Довольно аллегорий. Вот предмет
для ревности плебейской. С юных лет
ласкали Мойры признанную деву.
Москвичка, под рукой - Литинститут.
Не подписалась супротив отца "Живаго",
была отчислена за это ("бедолага"!),
но восстановлена. И чтима там и тут.
Союз писателей. Друзей-мужчин - без счёта,
мужья перчатками мелькают, а стихи -
изысканные тонкие духи,
хотя, по сути, для нее они - работа.
Несется резво, маслом смазан, колобок.
Сорокаградусная кое-что подправит,
прозаик злоязыкий в книжку вставит,
чернил нальют на глянцевый лубок.
А вот плоды бездушной корректуры
безглазого глухого сатаны:
равнины - в рытвины, распад большой страны
и сумерки богов литературы.
И песня лебединая - в больнице,
где с капельницей скорбный диалог,
вдох-выдох, взгляд финальный в потолок,
и простыня казенная бугрится.
Прости с небес недобрую меня,
твой говор нежный я вплетаю в струны
своей гитары. Наши предки - гунны,
и, стало быть, мы всё-таки родня.
Седьмой водой, троюродным плетнём
к следам твоим припасть - благая участь,
а зависть - смертный грех, мышленья узость
и едкой желчи мертвый водоём.
Да будет в горних низок мой поклон
той, что с обложки тихо улыбалась,
чей голос перепеть я зря пыталась,
на чей бесстрашно покушалась трон.
Два акросонета памяти деда
1.
Когда-то, семьдесят далеких лет назад
Аллах глаза прикрыл, устав следить за миром,
И нелюдь с кровожадностью вампира,
Раскинув щупальца, посеял мор и глад.
Без объявления войны (хоть были знаки)
Его несметных полчищ туча понеслась,
Круша, насилуя, глумясь, а наша власть
Живым забором городила свои замки.
Уменьем надо воевать, а не числом -
Мысль не нова, но долбит мозг, как землю лом,
А нам твердят, сколь велика была Победа.
Но какова цена, и кто горит в аду -
Ответить некому за общую беду:
Война не только моего убила деда.
2.
Железо с кровью пополам в лесах калужских:
Ульяновский район, каких не счесть,
Могилой братской стал для русских и нерусских.
Ата, здесь где-то прах твой тоже есть.
Найти не чаял мой отец, в кровь сбивши ноги:
Один - не воин в поле, круглый сирота.
Всевышний сжалился, и вот пути-дороги
Кружа, петляя, привели. Сбылась мечта.
Аул отцовский Обалы в краю целинном
И под Калугой деревушка ОзернО -
Рассвет с закатом жизни дедовой недлинной,
Батальный фильм для нас, военное кино.
Его финал - Победы день, апофеоз.
Кто б глубину измерил в океане слёз?
Рефлексия
Того, кто шире ячейки невода -
в тиски, впросак, в уху и в суши!
Глуши их гирей, электропроводом,
точи тесак, тащи на сушу!
Вода вскипает, мальки трепещут,
а он, бедняга, не крикнет: "SOS!"
Филистер знает, что сети крепче
пера с бумагой: прав, кровосос!
Не будь крупнее рыбёшки средней:
повинен смерти, коль на рожон
прёшь сам. Виднее тому, кто бреднем
мутит и вертит в пучине волн.
И в чем решенье? Расти в касатку,
дружить с акулой, покинуть пруд.
Не быть мишенью легко, но гадко:
немеют скулы, доводит зуд.
Таиться в яме, под пень забиться,
ввинтиться в землю, залечь в окоп?
В анапест с ямбом зубами впиться?
Нет, не приемлю. Хоть пулю в лоб.
А если просто - собой остаться?
Не гнуть коленки, не рваться в прыжке?
И нормам ГОСТа не подчиняться?
Сдувая пенки на молоке,
обжегши губы, к воде чуть теплой,
приникнуть страшно - таков закон.
Огонь и трубы (читайте "сопла") -
мой бесшабашный пророческий сон.
О, мир, доколе в кровать Прокруста
для страшной пытки ложиться нам?
Кричим от боли: ломать до хруста,
тянуть как нитку - каким богам
в угоду эти терзанья плоти?
Что, жизни омут - смертельный риск?
На белом свете, в своем полёте
не лезть к другому, вчиняя иск -
вот смысл завета "любите ближних":
оставь в покое иного суть.
Что ж, видно, где-то ты прав был, Ницше -
твоей рукою прикрою грудь
от камнепада, крючков с червями,
хитросплетений рыбацких снастей.
Моя отрада - свечное пламя,
на стенках тени ночных гостей.
Их так прихотливы и странны визиты,
им нет ни контроля, ни крепкой узды.
Приливы-отливы, все щели открыты
для гномов и троллей до первой звезды.
И в той гоп-компании трон королевы -
у взбалмошной феи, стервозной слегка.
Невидимой дланью и тихим напевом
мне строчки навеет и бросит: "Пока!"
Доверчивый шепот капризной летуньи
кому - откровенье, кому - сущий бред.
Чому ж я не робот и не Шакьямуни?
Нирваны забвенье - мой плюшевый плед.
А моськи пусть брешут: в пути караванном
не нищих - имущих шерстит рэкетир.
Пусть горестной брешью, пробитой нежданно,
Творец вездесущий продолжит пунктир
ударов кастета. Но Истина - дочка
текучего Времени, - Бэкон гласит, -
не Авторитета. И спящая почка
вас благостным семенем всё ж оросит.
Что ж делать? Известно. Ловить вдохновенье.
Гребя плавниками, волну рассекать.
И плод полновесный всЕнощных бдений,
как в золото - камни, в слова облекать.
Она
Сошедши в мир с картины Сандро Боттичелли,
ворвавшись музыкой в Стравинского балет,
Она раскачивает времени качели,
снимает с плеч людских давленье прошлых лет.
Разлито в воздухе таинственное нечто,
регенерирующий чудо-элексир:
вдохнешь и думаешь, что жил бы бесконечно -
как сам Аллах, Иисус иль Сатана-мессир.
Игривой рябью луж, весельем Наурыза
и каплей сладости в рыдании берез
Она искупит прихоть метео-капризов,
улыбкой солнца в череде дождливых слез
дарует щедро нам надежду на бессмертье,
за что и любим ее больше трех сестер.
Весна, ответь: в сей ежегодной круговерти
не ты ль поддерживаешь Вечности костер?
***
Друг, увези меня в тайгу, к чему нам тундра?
Зачем корабль в море с криками "полундра"?
И океанский шум прибоя - просто чушь.
Давай уедем, заживем в лесу, в чащобе,
как у Людмилы Петрушевской Новый Робин.
Ты, я и мальчик наш. Поглубже, в тишь да глушь.
На курьих ножках сруб поставим, печь затопим
и превратимся в строчки нью-антиутопий,
которых нет еще. В раскольничьем скиту
и в новомодных сектах та же, в общем, песня,
что и в миру: жестоко, суетно и тесно.
Ковчег, вперед! Нас трое будет на борту.
И красноглазой дрозофилой-трепетуньей
шальная мысль мельтешит в клоаке будней:
бежать как можно дальше, к чёрту всё послать.
Моё - со мной. Подачки старой вредной тётки-
Цивилизации отвергнув, скажем чётко:
"Мы умываем руки, жребий брошен, мать".
Ты нас не то чтобы совсем уж не любила,
но всё плотней мы вязнем в цепких лапах ила,
трясина тянет, и барахтаться невмочь.
Кому-то, может быть, и в кайф борьба с болотом,
кому-то близок вечный образ Дон-Кихота,
кому-то мил судьбы объятий липкий скотч.
К пайку стремясь, среду расталкивать локтями,
и щи прокисшие прихлебывать лаптями,
и зажимая нос, зажмурившись, ползти…
Финита ля комедия, синьоры.
Прощаемся навек, задернув шторы.
Жаль, от себя в тайгу не скрыться, не уйти…
Маргинал
Я - лавровый листок, пощаженный небрежной кухаркой,
в узкой щели, в пыли, за плитой - невредим, молчалив.
Я - динар устаревший в Аравии солнечно-жаркой,
закатился в прореху - бесчувствен хозяин-калиф.
Я - молочная строчка средь сонма впечатанных литер,
без огня непрочитанный космосом млечный изыск.
Я - блокадный, надменный и гордо-язвительный Питер,
я - в эпоху CD раритетный виниловый диск.
Я записана сбоку неверной дрожащей десницей -
маргинал, агнец с волчьим оскалом и пульсом стиха -
на полях Книги Судеб, где рядом плебей и патриций,
аутсайдер и принц, облаченные в рвань и меха.
На полях - ибо в игры жестокие я не играю,
на полях - потому что не гну позвоночник в дугу,
на полях я, зане* по-над пропастью, то бишь по краю
семеню потихоньку сквозь хлесткую жизни пургу.
Я шуршу серой мышью, и волосы собраны в хвостик,
я с народом - в автобусах пыльных и в темных очках,
между мною и ним камышовый игрушечный мостик -
трепыхаемся, в общем, в одних мы и тех же сачках.
Энтомолог-Судьба нас пришпилит умело и споро,
но и здесь я не в центре, а с краю повисну, увы.
Ни к чему мне конфликты и дрязги, дуэли и споры,
я хочу замереть наподобие мудрой совы.
Не нужна я Отчизне, замечена буду не сразу -
безделушка, забытая в полной коробке на дне,
ведь мечу не икру, не копьё, - правды горестной стразы,
а они в государстве моем далеко не в цене.
***
Необъятное, серое, ватное
одеяло стирает Аллах,
лишь кроватные встречи приватные
нам отмерив в субботних делах.
Загустеют потёки депрессии,
зачерствеют надежды коржи.
Как, скажи, переждать это месиво,
бесконечный отжима режим?
Плед шотландский, камин и мускатное,
сплин и пошлый жестокий романс…
Вариант - передача занятная,
книга, арт-терапии сеанс.
Нет эффекта? Марш к Богу в напарники!
Галатея и Пигмалион,
банно-прачечной школы ударники
и герои труда - я и он.
***
Шматки синтепоновой рвани
плывут из-за горной гряды,
Обломовы спят на диване,
Лопахины рубят сады.
Мигрирует лох-гастарбайтер -
Империи Вечный Чучмек,
рекламу строчит копирайтер
и чистит Беретту абрек.
Младенцы сосут кока-колу,
а старцы Виагру жуют,
лжесудьи по фальш-протоколу
на фарш винторогих сдают.
Мавроди плодит пирамиды,
бросается с крыши должник,
заткнул олигарх Немезиду
и Зевса засунул в нужник.
Едим ГМО-апельсины
и бройлером жирным хрустим,
но мир изменить мы бессильны.
Живем, как живем. И грустим.
***
Дочь климата континентального
с приставкой "резко", я ценю
миг благоденствия повального
под знаком лета в стиле "ню".
Развеселится тварь, дрожащая
подряд семь месяцев в году,
чья жизнь давным-давно пропащая,
как грешник в дантовом аду.
Не позабыть мне бодрой поступи
трех жизнерадостных бродяг
лиловолицых, в эту ростепель
влекущих вдаль фрагменты фляг
и остов водонагревателя -
в края, где гибнут за цветмет
десятки уличных старателей
под звон бутылок и монет…
***
Затянув заоконный мир солнцезащитной плевой,
все разъемы разъяв или попросту вывернув пробки,
гексаэдры компактных квартир крепостною стеной
обнести не удастся в утробе панельной коробки.
Жизнь чужая непрошеной гостьей рвет грани норы
в жилмассиве стандарт-эконом крупноблочного леса,
как протухшие тушки, лишенные черной икры,
источают амбре даже сквозь дымовую завесу.
Вкруг - то справа, то слева, вперед и назад, сверху - вниз
скрип, альковные стоны, сморкания, скрежет зубовный,
прорезает кошмарную явь невидимка-дантист,
или дрель по металлу свербит неумолчно и ровно.
У бодливой коровы бодлеровский пульс и размах,
но рога для других приберег скупердяй-небожитель.
Лексиконом обсценным утешившись, "нех, пох и нах", -
промычишь и потянешь конец ариадниной нити.
Лабиринтом из снов и реалий неброских скользя,
холлофайбер жуя экзистенции вялотекущей,
уходя от развязки фатальной шажками ферзя,
не мечтай обрести вслед за матом эдемские кущи.
Вечно будет вертеться сансары твоей колесо,
или гумус питательный почве собой обеспечишь?
Так в свинцовом предчувствии ноет и ноет висок,
и в предвидении плахи легки не по-здешнему плечи.
Если люди не более чем плодородный компост,
то зачем же стихи и сонаты придуманы были?
Можно клеить защитную пленку хоть встык, хоть внахлёст -
прах еси, миллиграмм обесцвеченной атомной пыли…
***
Ни хамкой трамвайной, ни вишенкой
(у нас и трамваев-то нет) -
обличье зачищу и вышколю,
избавив от броских примет.
В потоке людском мимикрируя,
печатая с плебсом шаги,
я свойскость свою педалирую
под маской простой мелюзги.
Джинсовка, кроссовки, бейсболочка,
китайский баул без понтов,
на дальней невидимой полочке
запас необыденных слов.
Слагай дифирамбы ли, пасквили
в запале азартной игры -
здесь хамки трамвайные застили
свет вишенкам страшной поры.
Всем, с дрожью в зажатых конечностях,
кто в лузерах, кто - в super-stars,
массовкой ко(с)мической Вечности
доламывать глупенький фарс.
У Бога потеть в бухгалтерии,
считая в зарплате нули,
трусливо мириться с потерями
и знать - нас опять провели.
***
В нотный стан проводов телеграфных
влит сумбурный концерт воронья,
как от Феба бегущая Дафна -
заполошная муза моя.
Бьется август в сенной лихорадке,
подгоняя ленивых коней
по колдобинам, трактом негладким
к золотому сечению дней.
Ах, судьбинушка, ветхая простынь,
что играючи рвешь в лоскуты!
Но макет худо-бедно, да свёрстан,
и затянуты быта болты.
В пустоте неприветливо-гулкой,
в духе самых приличных манер
мы Шагала прелестной "Прогулкой"
декорируем свой интерьер.
Сжав ладонь мою мужеской дланью,
в эмпиреи позволишь рвануть,
помесь ангела с уличной дрянью
надиктует словесную муть.
Обернусь легкокрылым поэтом
и, струной натянув поводок,
свой мотив уходящего лета
в нотоносец впишу проводов…
***
Так странно - изранивши душу, другую найти,
и там, где не знаю, куда и зачем, то ли, это ль,
и, в детство впадая, совсем как Тильтиль и Митиль
брести по дорожкам заросшим с котомкой поэта.
И в птиц, посиневших от холода, вертел вкрутив,
не веря давно ни в один из раскрученных мифов,
вдруг слышать иной, недоступный, но четкий мотив
и видеть лазурь оперенья, и волны, и рифы.
И делаешь вид, подавая котлеты и чай,
что ты - это ты, здесь, сейчас, и с улыбкой безгрешной,
скрываешь побег свой "далёко, на озеро Чад"
на встречу с жирафом изысканным в гомоне вешнем.
Вот сумрачный лес расступился, и компаса гид
правдиво тропинку в нечаянном туре укажет.
Стук пульса, набат оголтелый, и лысый ифрит
вручает покорно моток ариадниной пряжи…
***
Ах, как-то надо бы встряхнуться,
промыть мозги себе самой.
"Всё, - говоришь ты, - в божьей руце, -
бери шинель, пошли домой".
Яд эллиптических созвучий
приятен только до поры
до времени, а в общем лучше
не затевать пустой игры.
В капкане лисьем - рыжий всполох
и болевой нежданный шок.
Что наша жизнь? Кровавый Молох:
ему - дитя, лису - в мешок.
Закончить тоникой цепочку,
отгрызть конечность и - вперед!
И закруглить красивой точкой
гармоний вагнеровских мёд.
Не пить на завтрак крепкий кофе,
продрать глаза, вернуться вниз,
и вспомнить - мы ведь в чем-то профи,
без чьих-то льстивых сильных линз.
Шепчи, как прежде, еженощно,
что, мол, родился для меня…
И пусть другим мозги полощут:
мы вместе. Значит, всё - фигня!
***
Что было в девичьем гадании?
Застыл невнятно стеарин.
Игра с судьбой на раздевание,
да купленный постылый ринг.
Я не нашла тебя - нашарила
в изломах собственных дорог,
не королева, и не пария,
ты ж - не герой, не царь, не бог.
Нам хорошо без околичностей,
без клятв и ревностных потуг.
Гармония - в неидентичности:
мой вписан ромб - в твой прочный круг.
Акростихи Марине
1.
Морская, где ты? Уплыла заморским дивом.
А дома ждал стальной безжалостный капкан.
Рвалось и ныло сердце: реки, рощи, нивы
И - Русь, Россия! Слезы градом по щекам.
Не верь, не верь фальшивым фразам Эренбурга!
Антихрист утопил в крови страну.
Цепные псы от южных гор до Петербурга
Вонзят клыки свои - и не в тебя одну.
Елеем смазаны замки железной двери,
"Талонов нет на хлеб тебе", - рычали звери,
Армады вражеской страшней СССР.
Елабуга свечу твою погасит,
В застенках - муж и дочь, сестрица Ася,
А ты - безмерность унесла из мира мер…
2.
Целая Вечность - и краткий миг. Одна-одинёшенька. Страх.
Вылететь прочь от земных вериг, запутаться в вещих снах.
Елабуги черно-кровавая ночь. Пощады не будет, не жди!
Тебе не простят нетленную мощь и холод надмирных льдин.
Артерий твоих голубая река песок напоит с лихвой.
Епархия Зла, проклятье в веках - тебе - за Её убой!
Веселою пеной когда-то была, с бесстрашным пожаром в душе…
А после - не сникла, но вязкая мгла - судьбы роковой рикошет -
Марину заденет и в царство свое потянет сильней и сильней.
Аид с Прозерпиной встречают ее на темном безжизненном дне.
Рябины горчайшая алая гроздь - кладбищенской почвы презент…
И знает лишь небо, что Ей довелось услышать в последний момент.
На улицах тихо, здесь кто-то берёг татарской провинции сон…
А Ей - крюк с веревкой меж пламенных строк, в безмолвии страшных времён…
***
Дар безрассудной страсти алогичен,
глумлив и дерзок хулиган Эрот,
негромкий смех привычно закавычен,
магнитом тянет вглубь Венеры грот.
Туманны цели, ирреальна повесть,
миг сладкой боли длить - режим нон-стоп.
Романс гитарный, вечный Йепес - Гомес -
печаль и радость, классика и поп.
Так при одной лишь мысли оплывая,
взлетать и падать гаммой в две руки…
Идея фикс в мозгу забитой сваей,
и многоточий блик в конце строки…
***
Вот подарок нежданный в акме:
нить, нейлона и шелка прочней,
через тысячи пыльных кэмэ,
сотни лиц и непрожитых дней.
Зол и едок реальности лук,
но слезинку смахну со щеки.
Знает вещая птица Самрук,
что номады в движеньях легки.
Тыща верст нам ни крюк, ни петля,
расстоянья - химера и блеф,
Бога ради ли, дьявола для
мы меняем привычный рельеф
под заманчивым светом Плеяд,
ноют ноги в стальных стременах,
наших душ метеоры горят,
застревая в иных временах.
Как простой мексиканский шаман
в мескалиновый морок вплыву,
спрячу трезвость в глубокий карман
и зависну во сне наяву…
***
Не отмахнуть рукою, словно паутинку -
примету лета бабьего, твою
канцону, еле слышно, под сурдинку,
вдали напетую не так, как я пою.
Слепым открытьем Христофоровым, огрехом
расчетов обернется сей сюжет,
иль разум здесь - досадная помеха,
соринка в складках божеских манжет?
Глухой тиратой, шепотком в субконтроктаве
родившись, обрастает снежный ком.
Сергей Прокофьев. "Наваждение". Кто вправил
в падеж предложный на вопрос "о чем, о ком"
ответ негаданный в переплетенье истин?
Развилка, перекресток двух дорог.
Работа чьей-то неизвестной кисти.
Прозренье грянет, как всегда, лишь дайте срок.
***
Зарыдали небеса взахлёб,
золотой сентябрь исчез вдали.
Что нам остается? Горький стёб
да осевший крейсер на мели.
Лаконичный яростный пожар
потушил неведомый брандспойт,
мы идем по лезвию ножа
нашей общей хоженой тропой.
Стиснем зубы, переждем накат,
побравурней музыку включив,
кажутся дороже во сто крат
бога Ра нещедрые лучи.
Ты меня до хруста обними,
расцвети, как можешь, акварель.
Прочь игру в Рудольфа и Мими,
лучше - в Дюруа и де Марель.
***
"Желание уже творит" - ведь так?
Барьеры к черту, прохожу сквозь стены.
Всяк слесарь молится на свой верстак,
всяк лицедействует служитель Мельпомены,
и всякий любящий - безумец и слепой:
взывать бессмысленно и к разуму, и к зренью.
Несется скот в жару на водопой,
Орфей спешит за елисейской тенью.
А мне мой кубок - залпом и до дна,
ну а потом пусть будет всё, как в книгах:
расплаты час, несмытая вина,
и мы с тобой - в безжалостных веригах...
***
Чиркаю спичками. Пламени жжет язычок.
Так - без конца, и от сердца немного оттянет.
Осень и тьма за окном здесь, увы, ни при чем.
Кухня. Безмолвие. Ночь. Бормотание в кране.
Чувства - такая вот ломкая, хрупкая дрянь:
плюнуть, не глядя, смахнуть, черепки презирая.
Стылой октябрьской ночью бездомная пьянь
только и счастлива - сном алкогольного рая.
По перекладине можно ногами вполне,
так и по мне - невзначай, не заметив вибраций…
Лёд, субфебрильная, отсветы в черном окне,
жжение в кончиках тонких, измученных пальцев…
***
Каучуковые жены - морякам,
синтепоновые куртки - беднякам,
безголосым на эстраде - полный плюс,
колбаса - тем, кто не помнит мяса вкус.
Суррогатною теперь бывает мать,
пей снотворное, коль хочешь крепко спать,
нет вина - хлебай дешевенький эрзац,
натуральному всему пришел абзац.
Настоящей дружбы нынче тоже нет,
но проблему разрешает Интернет:
кликай мышкой, жми на кнопки, юзай сеть,
ни к чему в лицо реальности смотреть.
Аватар, отфотошопленный визаж,
как манит далекий призрачный мираж!
Сфабрикованные образы вокруг,
а каков на самом деле новый друг -
в это, в общем-то, вникать - себе вредить,
научиться нужно "просто, мудро жить".
Нехимический наркотик - виртуал
дарит щедро то, о чем давно мечтал.
Нью-романтикам - все тот же старый путь
уготован, чтоб "забыться и заснуть".
В параллельный мир шагает легион,
несть числа: больны и я, и ты, и он…
***
Вчера еще с маниакальной дрожью,
досадуя на пар клубами белый,
любитель-рыболов стонал: "О, Боже!",
в напряге тяжком мозг, душа и тело.
Сегодня - лёд, по Цельсию - пятнадцать
пониже нулевой отметки, прихоть
природы здешней, и зубами клацать
кому-то в люках теплотрассы тихой.
Кому - мечтать о горках в скучном классе,
кому-то - продавать себя за дозу,
кому-то - ледобур вонзать и квасить,
и красный нос оправдывать морозом.
Как озеро во льдах оцепенеешь,
закованная в шубку меховую,
руду золотоносную просеешь
слов неизбитых. Гендель, "Аллилуйя"
в наушниках, но хочется иного,
попроще, подемократичней где-то.
Зима, хандра - все, в общем-то, неново,
и в окнах мерзлых чьи-то силуэты.
Окукливаясь, станешь безразличной
мужскому взору. Бог с ним, и не надо!
Дождемся мая: Данте - с Беатриче,
и ловишь на себе прохожих взгляды…
***
Ехали в скором поезде,
в мягком купе на двоих,
в узкие времени прорези
влился загадочный стих
исподволь и ненадуманно,
катится вдаль разговор,
будто гитарными струнами
песни простой перебор.
Слово, бесценное золото,
в мерном колесном "тук-тук",
тайны мадридские вспороты,
правда - из первых рук.
"Так не бывает, - скажете, -
не городи ерунду!
То, что годами нажито,
не раздают на ходу".
Но ведь на то и попутчики,
чтоб откровеньями жечь.
Свет привокзальных лучиков,
радость негаданных встреч
на небесах программируют,
и замышляют финал
нам драматурги надмирные -
черт бы их, что ли, побрал.
Станции выпали разные -
шалость краплёных карт,
мини-роман одноразовый,
нота со знаком "бекар".
Милостью божьей дарованный
скальпель хирурга, виват!
Буду жива и здорова, но
старые раны саднят.
Пульсы-синкопы, как в поезде,
сердце дырявят насквозь…
В краткой дорожной повести
встретиться нам довелось.
Ночь
Кровоподтеки кучевые на закате
(то зацелованные вусмерть небеса),
она идет в поход по старым адресам,
и от Шанель не греет маленькое платье.
Ее шагов пристойно-мирный антураж -
рукопожатье, теплый взгляд, слова без треска
и диск любимый с ми-мажорной "Арабеской" -
давай махнем без сожаленья, баш на баш.
Взамен получим парафразы из "Кармен",
объятья, огненные взоры, кастаньеты
речей без фильтра, средь зимы устроим лето -
пускай ворвется знойным ветром перемен.
Колдунья Бальмонта скользит, и чей-то ластик
границы времени исподтишка - долой,
и ночи волшебству не стать золой,
а новый день забот сулит земное счастье…
К Томирис
1
Посвистом стрелы,
горечью хулы,
времени рекой,
броскою строкой,
крови бурдюком,
мести огоньком,
матери слезой,
солнцем и грозой,
гордостью степной,
крепкою стеной,
дикой красотой,
дерзкою мечтой,
Рубенса мазком,
Каспия песком,
Сырдарьи волной,
кобыза струной
да игрой актрис
вечна - Томирис.
2
Массагеты - в пыль,
в венах слаб раствор,
шепчет нам ковыль
смертный приговор.
В каждом пункте - боль,
двусторонний меч,
незавидна роль -
головою с плеч
покатиться вниз,
утонуть в крови,
к битве, Томирис,
память призови.
Голос тих и глух,
геродотов миф,
Где ты, вольный дух?
Где ты, предок-скиф?
Двадцать первый век,
мясо и арак,
неподъемных век
зол не внешний враг.
Некровавый пир
кончен, дремлет раб,
сотрясает мир
богатырский храп.
По следам одного процесса
Нешуточный давит мороз,
за тридцать, ни много, ни мало.
И бледное небо, и колкий, увы, кислород.
Дворняга, ободранный пёс
свернулся в калачик устало,
и в варежки прячет носы торопливый народ.
Оборвыши мыслей - на снег:
формат А-четыре бесстрастный,
и в белом безмолвии жутко правдивым словам…
Солдатиком был, ныне - зек
пожизненно, силы угаснут
быстрее, чем жизнь, нет бы - сразу в висок девять грамм.
Ужель буффонада - наш рок?
С Гуинплена ужасным оскалом
вчера, и сегодня, и завтра, и в Вечность шагать?
Даем материнский зарок:
уж лучше - кастратом в La Scala,
и пропадом пусть пропадет "королевская рать".
Пятнадцать в земле человек,
сундук мертвеца, странный случай.
Окончен процесс, за решеткой мальчишка. Маньяк?
Мой демос продолжит свой бег.
Сюжет детективный закручен.
И верит газетам лишь самый последний дурак…
***
Самые сложные в мире вопросы,
хитросплетение вен,
много ли, мало ли - тюрки и россы,
шкалит негодный безмен.
Волга впадает в Каспийское море
и растворяется вмиг,
атомы крови то дружат, то спорят,
хрипло срываясь на крик.
Песня гортанная - стоном бурлацким,
бурная хлещет волна.
Райским блаженством, мукою адской
чаша испита до дна.
Краем, обочиной, тропкою узкой,
смеха и слез не тая,
быть "инородцем словесности русской" -
долюшка-доля моя.
***
Пунктир индейским томагавком,
всё - об одном:
вот так, металлом легкоплавким,
и - поделом.
Нас нет ни в церкви, ни в мечети,
спасенье - чушь.
Один рецепт - размах мачете,
разрывом душ,
отказом рук и губ от встречи
и схимой схем
земных, невидимым увечьем
избитых тем.
Взахлёст неправедная лава,
напор - Шарко.
Накал сюжетный - эти главы,
читать - легко.
Сработал споро переплётчик,
воткнул в клавир
нам уготованный подстрочник -
сплошной пунктир……
Почти по Набокову
Нет, это не фигура речи -
"слабеют ноги", "пульс частит".
Шаман австрийский Зигмунд - вечен,
а грешный тик и шит, и крыт.
"Мужчины - сво…, все бабы - дуры" -
сколь жизни формула проста!
В застенках камеры-обскуры
судьба проиграна с листа.
Мир опрокинутых реалий.
Иллюзион. Последний ряд.
Сплетенье рук в пустынном зале.
И жахнет молнии разряд.
Замшелых слов густая роща
и палиндром запретных тем…
Диск форматнуть - куда уж проще.
Финал. В кромешной темноте.
***
Mon ange, разольем по бокалам сачино,
свечу восковую зажжем.
Хрусталь, полумрак, хохоток беспричинный,
жестокая правда - ножом.
Вперёд отмотаем, и в действии третьем,
пока еще пир, во хмелю,
с тобою нам исповедь пьяная светит,
и яд подслащенных пилюль.
Зачем эти страсти, сомнения, ревность,
к чему затевалась игра?
Напрасно в гареме беспомощный евнух
скулит, дожидаясь утра,
напрасно плетельщица стульев подарит
любовь негодяю Шуке,
Евгения - Шарлю, а глупая Скарлетт
по Эшли вздыхает в тоске.
Упорная блажь нам рисует фантомы,
морочит, беспечно дразня,
пятнает листы непорочных альбомов
искуснейшей кисти мазня.
К мифическим текстам подобраны ноты,
рождается песенка-ложь,
там кто-то за что-то когда-то кого-то,
и ты вдохновенно поешь.
Поругано Данко никчемное сердце,
надежды сгорают в огне…
Затронутым нервом вибрирует меццо
в расстроенной кем-то струне…
***
В воду - не зная брода,
в очи - зеркальный осколок,
слева от пищевода
подушечка для иголок.
Язва - дитя фастфуда.
Рвётся всегда, где тонко.
Выросла ниоткуда
плёночка-перепонка.
Мы с переводом сурдо
через неё - отныне.
Жизнь - театр абсурда,
каменная пустыня.
Воля сдана в аренду.
Кончится наважденье
тусклым диминуэндо,
зоною отчужденья.
Лишнему путь - за двери
(с крыши - для мелодрамы),
тихо и без истерик
перебинтуем раны.
Тренинг дубленой коже
необходим, но дорог.
И разорваться может
подушечка для иголок.
***
Алексею
Улыбка твоя - панацея,
объятьем закончится ссора.
Бессильны и чары Цирцеи,
и "план-перехват" Черномора.
Ты всё мне простишь, я знаю:
немыслимый мой зигзаг,
и это скольженье по краю,
и тот опрометчивый шаг.
Мне имя твоё - порукой,
с тобой я всегда "со щитом",
мы в сны друг друга - без стука,
как в свой единственный дом.
Пусть кто-то живет без правил,
упрёк не достигнет цели.
Что кайф приносило - давит,
увы, батарейки сели.
Да, разум блуждает в тумане,
в игнор отправляя сигналы...
И в жизнь, как на поле брани, -
опасно с открытым забралом.
Слушая Шуберта
Тишина. Ночь в отрубе от мира,
и не слышно пустой трескотни.
Только Шуберт с "Шарманщиком" сирым,
да бурдонные квинты одни.
В "Зимний путь", как и я, неприкаян,
с неизменным ознобом в груди,
кто-то тихой слезинкой стекает,
оставляя мираж позади.
Кожей с мясом себя отдирая
там, где намертво кровью присох,
и обидой налитый до края
побредёт незадачливый лох.
Ворон каркнет, собака облает,
злой мальчишка залепит снежком.
Всё - пустое. Лишь песня простая
без распевов звучит говорком.
Гордость смятой подушкой бугрится,
от трактира к трактиру, с тоской,
в межреберье горячая спица,
вьюга хлещет в глаза, как песком…
Не давай над собой никому ты
власти, - слышишь, влюбленный поэт?
Счастье - миг, или, чёрт с ним, минута,
а расплаты часам счёту нет.
Глупо маяться этакой дурью,
не разжалобишь ты никого
пеньем сладким сквозь снежную бурю,
как Орфей - олимпийских богов.
Просто выбрось чернила и "клаву",
по утрам закаляйся, как сталь,
а из женщин люби только славу,
сразу станет бесслёзным февраль.
А за ним недалече капели,
в заоконных руладах коты,
и картина "Грачи прилетели",
и весна, и любовь, и мечты...
***
Не собирай пожитки в узелок,
огню предай,
и волоча подбитое крыло -
на бездны край.
И в затяжной рассчитанный прыжок,
глаза прикрыв.
Развязки краткий миг - электрошок.
Финал, разрыв.
Рондальной формы гибельный рефрен
стучит в висках.
Жизнь - эпизод, всё остальное - тлен,
увы и ах.
Продлённой болью душу не мытарь,
прости, забудь.
Сожги дотла, вдыхая дым и гарь.
И - в дальний путь.
Тарусе - с любовью
Там тишину провинциальную
тревожат больше в уик-энды,
реки-Оки там гладь зеркальную
считают гордо местным брендом.
Там красным вписаны фломастером
часы работы туалета,
15 рэ - доходным кластером
теперь райцентру точка эта.
Всерьез "Приказ на основании
решенья думы" о расценках,
что юмористам на попрание
висит на туалетной стенке.
Там вождь клинобородый гоголем
в пяти шагах стоит от храма,
туда студент столичным щёголем
раз в год вернется: "Здравствуй, мама!"
Там трех киргизских гастарбайтеров
наш глаз цепляет мимоходом,
там нет логистов, копирайтеров,
там не в чести гламур и мода.
Там воздух чист, и льдисто-млечная
Ока. Поленов, Грёз Долина.
Там в памяти зарубка вечная
с любимым именем - "Марина".
***
Сотни три винтовых ступеней прошагаем монашьим маршем,
успокоив сердцебиенье, пролетающим птицам машем.
Воспоем человеческий гений и дитя Петра-самодержца.
Здесь повсюду великих тени, да в Европу прорублена дверца.
На Неве еще лед не тает, но католики щиплют вербу.
А в мозгу - Татьяна Толстая, и эссе с передозом гипербол.
"Март хорош, мол, для умерщвленья бренной плоти гостей Пальмиры:
взять хотя б одно дуновенье чем-то страшным с реки. И сирым,
бесприютным, чужим несешься колобком побыстрей к жилищу,
к батарее горячей жмешься, впопыхах поглощаешь пищу"…
Ах, никчемно стремленье Ваше малевать Питер в мрачных красках!
Я не видела города краше, и со мной он был тих и ласков.
День безветрен, светлое небо, и Петрополь пьянит прозрачный.
Здесь остаться навеки мне бы. Туристический пыл не растрачен.
Я вернусь когда-то в июне, для бессонных ночей "без лампады",
с вязью слов, не избитых втуне, в дар волшебному Петрограду…
***
Женщины - странные существа.
Их, как известно, легко заводят
не специальные вещества,
не стриптизёр в обтянутом боди, -
буковки. Черные, как смола,
на желто-белом бумажном фоне.
Вокруг такая вязкая мгла,
а здесь, par example, Родион и Соня.
Или еще кто-нибудь, Бог весть,
в роли, гм-гм, афродизиака,
очень востребованного днесь,
на пятом году счастливого брака.
Так и приехали в СПб
запоздалым марьяжным вояжем:
сбои-заминки иной судьбе
необходимы, и кстати даже.
И - променадом, рука в руке,
там, где уездили Катерину,
где Акакий бежал налегке,
Всадник дышал Евгению в спину.
Здесь от одних только книжных спор,
(плюс-минус музыка - кто бы спорил),
в свежую фазу вступил амор,
"Котам Петербурга" прилежно вторя.
Бродим, глазеем, зайдем в трактир.
Весело так, беззаботно, будто
с дистанции вдруг удалось сойти,
и неизвестно, когда нетто-брутто
взвешивать и подбивать итог,
вычислив долю правдивую в шутке
про чудодейственность чьих-то строк
о психопате и проститутке.
Вот и Радищев. Сиречь - "Сапсан"
из Петербурга - к Третьему Риму.
Это, увы, начало конца
тура. А дальше - a tempo primo*.
Мост над речушкою Кылшакты,
рядом - Копа, камышовое устье…
Тихая гавань, где я и ты,
наш "Поцелуев мост" захолустья.
***
"На Ишим, на Иргиз безводный,
на прославленный Атбасар…"
(Анна Ахматова)
Тридцать семь "с копейками" опять,
год тридцать седьмой, без перемены.
Стоит ли сатрапам письма слать,
прошибая Словом злые стены?
Тонких рук изысканный излом
в линиях рисунка Модильяни -
в Шереметьевский Фонтанный дом
Донна R стремится к Донне Анне.
Я везу поклон из тех краев,
где царил когда-то дух острожный,
где навечно въелись пот и кровь
в каждый куст и камень придорожный.
Разные с тобой у нас пути,
но себя с пристрастьем вдруг спросила:
отчего случайный палантин
безотчетным жестом нацепила?
Отчего судьба мне - тень и тишь,
и фитиль расчетливо прикручен?
Пусть, увы, не львенок - мой малыш,
а над головой - иные тучи?
Я - как "та, другая" - подняла б
в год лихой с земли головку лука*,
и - сама себе слуга и раб -
не ищу ничью в невзгодах руку.
Но - как ты - я дочь страны своей,
чей удел смиренно принимаю,
с "миксом" полигонов и полей,
зараженных рек, пустынь без края.
Львиный рык** о пращурах в степи,
хан Ахмат и профиль пресловутый -
вот чем Бог меня с тобой скрепил.
(Слышу хмык сторонний: "Фу-ты, ну-ты!")
Не прощу тебе я лишь одно:
что, в холодной трезвости тоскуя,
пролила бесценное вино,
оттолкнув от ног Волну Морскую…
* - Этот факт из биографии Марины Цветаевой в книге М. Белкиной "Скрещение судеб"
приводится в связи с характеристикой личностей и психологии двух поэтесс.
** Лев Гумилев "Древние тюрки".
***
Антону Воронову
Я не помню, художник озябший, твой город таким,
Как его рисовали мне разные русские книги:
Флёр безумия легкого, холод предсмертной тоски,
Меланхолии нота, продленная скобочкой лиги…
Не задавленным голосом крови, акынской строкой
Я пою то, что вижу и чувствую, знаю и слышу,
В свой черед восторгаясь затянутой льдами рекой
и державным величьем с высот Монферрановой крыши.
Я запомню не праздный вопрос - мол, в какие края,
Увезем мы картинки с чуть видной в углах монограммой.
Разведенный дворцовый, Исаакий - частица твоя -
Антураж авангардно-бессмысленной вычурной драмы.
Не запомнит сердечная мышца жестокий урок,
Ведь забвение - верный залог долгой жизни и счастья.
Лишь билетик из Дома Фонтанного, смятый листок,
Завалявшийся в сумочке - прошлого звучное "здрасте".
Отчего так бывает? На свете случайностей нет.
Значит, где-то в сценарии эта записана встреча.
Но порой разобрать, откровение то или бред,
Ни премудрое утро не сможет, ни скомканный вечер…
***
Нет, не выжечь каленым железом
и не вытравить кислотой,
перочинным ножичком врезан
остов фабулы непростой.
Чувства были амбивалентны,
сплетены в шерстяной клубок,
драматической кинолентой,
где финалом - в горле комок.
Не распутаешь эти нити,
по живому рубишь сплеча.
Ревность - что? Любви инобытие,
где ни жертвы, ни палача.
***
Не фиксируй вниманье,
нажми на педаль,
и гоняй эти гаммы в октаву.
В приумноженном знании -
только печаль,
им заслужено горькое право
стекленеть мутным взглядом
и с ватой в ушах
никогда не включать телевизор.
Вновь - "общественность" рада
выпить яду ушат
да нагнуться, как башня из Пизы.
Вновь - рукою махнуть:
лишь бы - мир и покой,
поясок затянуть до предела.
И газетную муть
разливанной рекой,
по привычке - в сортирное "дело".
Нам работа не волк,
плюс пять лет - не беда,
пусть всего-ничего до мазара.
Ропот слабый умолк,
но в министра труда
залепили яйцом, без базара.
Вить веревки нон-стоп,
и не чуять дымка,
желваками игры не заметить…
Вам - позорнейший столб,
и возмездья рука,
и по обуху - праведной плетью.
Это просто мираж,
романтический писк,
меч картонный в руках идиота.
Несусветная блажь,
неоправданный риск,
бенефис дурака-Дон-Кихота.
Всё, увы, компромисс
меж дурным и благим,
нам ли метить в небесное царство?
Надо тупо - вверх-вниз,
не включая мозги,
и в моторности видеть лекарство.
***
"Даже в голоде по человеку, -
спел мудрец позапрошлого века, -
усвояемой, легкой пищи,
пусть и некалорийной, ищешь"*.
В свете этой бесценнейшей мысли
ближний круг будет немногочислен,
и отправится за ограду
тот, в ком с верхом йоду и "йаду".
Та же муть в наших спазмах сердечных:
кто десерт не перчит, не перечит -
тот и мил нам. Вопрос комфорта.
Боль - не шутка, разрыв аорты.
Homo homini все-таки lupus
est, и ест он взахлёб благоглупость.
А шестая ума палата -
супер-люкс для персон нон грата.
В аутсайдерах, сбоку припёка
фишку рубящий с полунамёка.
Много знающих - убирают
в тишине (если хата с краю).
Тыщу раз прав был сумрачный Фридрих.
Вот он, пищеварительный "вывих":
приближаем к себе - удобных,
и тоскуем - по несъедобным.
* "Даже в своем голоде по человеку ищешь,
прежде всего, удобоваримой пищи,
хотя бы она и была малокалорийной,
подобно картофелю" (Ф. Ницше)
Ноктюрн
Перестань же мне сниться, навязчивый морок.
Боль фантомная - все-таки сильная боль.
"Был ли мальчик?", который вдруг стал чем-то дорог,
как Шопена ноктюрн подзабытый в c-moll,
как любимых томов запах стойкий и пыльный,
как в шкафу за стеклом штабеля DVD -
черно-белых и странных теперь кинофильмов…
Ворохнешь - снова душу мою бередит.
Пепел роз не развеян, в изящном сосуде
навсегда поселился, и заперт на ключ.
Нас никто никогда ни за что не осудит.
Перестань, я прошу, мое сердце не мучь.
Ночь атласные простыни мягко постелет,
пронесется мгновеньем сонм призрачных лун.
Черно-белая суть протекает сквозь щели,
черно-белые клавиши шепчут ноктюрн.
Эта Вещь любит тайну, тьму, иносказанье -
подголосок, ущербному месяцу дань.
И соблазн контрапунктом - мотив притязанья…
Умоляю тебя: сниться мне перестань.
Тупик
В голове перманентный бардак,
мысль с мыслью играют в амор,
белоснежный вздымается флаг,
беспредметный кончается спор.
Но поленницей ломаных дров
возвышается пик - до небес,
мендельсоновской "песней без слов",
а вернее - с избытком словес.
Два вагона стоят в тупике,
хоть ты плачь - ни туда, ни сюда,
вот и всякое лыко - в строке,
утекает живая вода.
Узелковое вьется письмо,
нити нервов порой теребя.
Проще тронуться тихо умом,
никого никогда не любя.
Точка невозврата
Жужжанье мошек
в низость дна
врезалось.
Ни слова больше.
Пелена.
Усталость.
Залиты угли,
и чадит
нещадно.
И кто-то в "Гугле"
намерзит
площадно.
"Зерцало грешного"
винить
в уродстве?
Желчь безутешного,
и дни
в сиротстве.
Нам в унижение -
злословья
пакость.
Боль отторжения,
заслон,
инакость.
И только грома
в тишине
раскаты.
Наш мостик сломан
в точке НЕ-
возврата.
Анастасии Цветаевой
Три месяца - и семьдесят страниц*.
Здесь десять лет еще меня не будет.
Благая удаленность от столиц,
нить времени, переплетенье судеб…
Ей "мнилась морем" гладь Копы моей,
а наши сопки высились "холмами".
Таруса, Коктебель - тень прошлых дней,
пейзажи детства - в Кокчетавской раме.
И в каждой строчке повести - любовь,
которой старость с молодостью - вровень.
Избушки жалкой краткосрочен кров,
язык письма - несуетен, бескровен.
Готовит внучку в наш пединститут,
прикрывшись этикеткой "обыватель",
из бытовых освободившись пут,
она лишь по ночам - бытописатель.
А день заполнен мелочью проблем:
вода, дрова, уборка, постирушка -
земной юдоли неотвязный плен,
где каждый - узник, всяк - судьбы игрушка.
Без логики был вышит гобелен
на первый взгляд. А может, всё логично?
Она без фальши восхищалась тем,
что мне иль параллельно, иль привычно.
"Чапаева" сегодня - "Канай би",
и всё кругом в асфальте и бетоне.
Жива Копа - предмет её любви,
холмы - на месте, ветер так же стонет.
Увижу в совпаденье высший знак:
сестра Марины - Ася - в Кокчетаве….
И пусть Букпа - отнюдь не Аю-Даг, -
всё расцветёт в цветаевской оправе.
Три месяца - и повесть на века.
Здесь десять лет еще меня не будет.
Свивает чья-то мудрая рука
связующую нить сплетенья судеб…
* В 1966 году в течение нескольких месяцев лета и осени в моем городе
жила Анастасия Ивановна Цветаева. Ее внучка Маргарита, дочь Андрея
Цветаева-Трухачева, поступала в это время в Кокчетавский педагогический
институт. Анастасия Цветаева описала кокчетавский эпизод своей долгой и
многотрудной жизни в автобиографической повести "Старость и молодость"
(первоначальное название - "Кокчетав"). Повесть опубликована как третья
часть книги "Моя Сибирь", вышедшей в издательстве "Советский писатель"
в 1988 году. В повести просто и трогательно рассказывается о Кокшетау
полувековой давности глазами А.И. Цветаевой. Произведение насыщено
параллелями, краткими экскурсами в общее с Мариной прошлое, и при
внешней неяркости сюжета покоряет правдивостью и теплотой повествования.
Девочка на шаре
Балансирующей девочкой на шаре,
далеко от неба, близко от земли,
то в филистерстве, то в творческом угаре
я летучие варганю корабли.
Запускаю вверх, следя за их полетом,
просто так, без притязаний на успех:
скорость низкая, Adagio con moto*,
и кругом полно ворон, препон, помех.
Не отыскивая истину в кумысе,
и сермяжной правде чуждая, увы,
лишена совсем и напрочь хватки лисьей,
и сама себе накладываю швы
в тех местах, где лоскутками красной ткани
излохмачен кем-то пламенный движок.
И сажусь я только в собственные сани,
наплевав, что у кого-то там "Пежо".
Крылья ангельские с ведьминой метелкой,
как и все, пускаю в ход и там, и тут.
И когда-нибудь, как все, навек умолкну,
и портфолио снесу на Страшный Суд.
А пока после полудня солнце жарит,
я гуляю, как и все у нас - на все!
Балансирующей девочкой на шаре,
забываясь хоть в вине, хоть в кумысе.
В дачном домике
Мы построим когда-нибудь дом из клеёного бруса.
Крыльев скромен размах, и заужен мечты коридор.
Здесь мы вбили копьё в поперечность Земли - значит, плюсом
обернется наш минус. Довольно и впадин, и гор.
На родительских сотках, в гостях, хорошо, но - не дома.
Вот бы крепость, фазенду и ранчо, сложив, разделить.
Стены кормят в обители тихой, и счастье бездонно.
Не хочу, не могу умерять эту детскую прыть.
Берег Чаглинки, тальник, пейзаж колоритен и смачен.
Мирный пригород, даль и простор, огороженный сад.
Скаламбуренной "дачей у моря и морем удачи"
грезить, верно, не станет судьбой умудренный номад.
Заведем конный выезд… Шучу! Просто - справную сивку.
Ты научишь меня, наконец-то, держаться в седле.
Свет камина со шкурой медведя, мартини с оливкой
демонстрировать будем на зависть обширной родне.
Улыбайся, кивай моим бредням, бросая полешки,
раскаляя буржуйку под ливня немолкнущий блюз.
И, пока никого, с румбой-самбой спонтанной не мешкай.
Шелест листьев намокших, перкуссия порванных бус…
***
Мыслеобразы вниз струятся
песочком пляжным.
Полотенце, цветные сланцы,
корабль бумажный.
Хорошо, разморившись, в воду
с разбегу, с визгом,
мы вне времени, мимо моды -
блаженства брызги.
Всё - возможно. Паришь, как птица, -
бывают миги.
Вдруг представишь себя страницей
какой-то книги,
нераскаявшимся из Севильи
тем дворянином,
исполнительницей "Сегидильи"
порочно-милой,
размалеванным вусмерть готом
с тату на тельце,
коль грешить, то бесповоротно,
а там - на рельсы.
Или - нет, легендарной девой,
сигая с кручи,
и акын о тебе - напевом,
чего уж круче?
Или просто - уходишь в горы
(так интересней),
позабыв про постылый город,
где смог и тесно…
Не меняется пляж любимый,
лишь мы - из глины.
Жизнь - театр: гримасы - миму,
а песнь - ундине.
Но хоть в десять, хоть в тридцать-сорок -
монетку в волны,
чтобы вновь под русалки соло -
на берег сонный.
Шашлыки, рыбаки, палатки.
И чайка плачет.
Ты - одно из восьми десятков*,
мое Чебачье.
И к тебе серпантин-дорога -
со мной навеки.
Ей молюсь я, не веря в Бога,
не зная Мекки...
***
Мир - латентный шизофреник:
возбужденье, торможенье.
Смерть - проплаченная "доза",
счастье - не для всех.
Колокольным звоном денег
кто-то жабу с розой женит
и в руладах ламентозных
отмывает грех.
Чем уколот ангел нежный,
спящий у груди таджички,
что покорно - на "работу",
даже в Рамазан?
Жизнь уродливо-безбрежна.
Не напишешь Богу в личку.
Тошнота подкатит рвотой.
Шоры - на глаза.
Новость дня - мороз по коже:
новорожденный на свалке,
и лежит отдельно ручка*.
Господи, прости!
Что же это, Матерь Божья?!
Стыдно. Больно. Мерзко. Жалко.
Эта сволочь - жертва случки?
Демон во плоти?
"Как репейник, не цепляться",
"думать только позитивно",
мудрой мантрой сделав этот
заговор проблем.
И бесчувственным матрацем
надувным по курсу - мимо
многих, дьяволом пропетых,
щекотливых тем…
***
Тихий шаг под августовский дождик:
что там за рассол - поди узнай.
Пузырями лужи, мелкой дрожью
пропоет в степи камыс-сырнай
пасторальный наигрыш в миноре
о страстях на грани или за,
и проем оконный вновь зашторен:
сгиньте, любопытные глаза.
Эта боль - аккорд без разрешенья,
наконечник сломанной стрелы,
кадров непонятных мельтешенье,
тайный зов потусторонней мглы.
В сладкий сок манящих саррацений
угодишь - и шанс один из ста
вырваться. Да, опыт сей бесценен,
а приманка липкая - густа.
Отряхнуться, что есть сил, и - с Богом!
Рай - спасенным, влипшим - западня.
Снова - осень. Вьется путь-дорога
в легкой дымке пасмурного дня…
***
Всё могло быть иначе,
по другому сценарию,
хоть сюжет молью трачен,
и заезжена ария.
Вновь - ненужная рухлядь
чемоданами опыта,
недомолвки набухли
напряженными нотами.
Ложь, фальшивое пенье
в душу намертво впаяны,
не найдет утоленья
зуд в крови неприкаянной.
Так друг в друге завязнуть
мелкой дробью - не пытка ли?
Не сложившимся пазлом,
гобеленом не вытканным…
***
Просто Casus inoperabilis,
или - что?
Разошлись навсегда, избавились,
всё тип-топ?
Но тоску по реке не сплавите
в пустоте.
Миф осколком торчит в прапамяти
о мечте,
там две доли - в единство прочное,
инь и ян.
Обезврежены, обесточены -
в божью длань,
там, где с нас оболочки тесные -
шелухой,
будет счастье царить небесное
и покой.
Ну а здесь, где тиски условностей -
только так:
лепят нам ярлыки с готовностью -
"друг" и "враг".
***
Ракета взлетела, ракета упала,
и сразу на сердце паскуднее стало.
Гептиловой тучкой полнеба закрылось -
кому-то в бездонный карман перепало.
"Пять Франций" - не хило для бывших номадов,
отходы - в доходы, и смерть листопадом
посеять несложно на мирные степи,
играя на дудочке сонному стаду.
И рты на замочке: о той "Хиросиме"
балетов не пишут печально-красивых.
Мутанты - не люди, разменной монетой
страна - как безмолвная тля в керосине.
***
Ищут пожарные, ищет полиция,
днем с фонарем, в кишлаках и столицах,
ищут, как нищий - питья и воды,
чистое сердце без пятен и дыр.
Честность, правдивость и великодушие,
целостность - ту, что ничем не разрушить,
и всепрощенье - щекой под удар,
скромность, и щедрость, терпения дар.
Ищут студенты, врачи и шахтеры,
учителя, бизнесмены и воры,
ищут давно, но не могут найти.
Этого - нет. Ни вокруг, ни в сети.
Ум с добротою в изящном флаконе,
сердце, раскрытое как на ладони,
мудрость, порядочность, флёр красоты,
словом, Царицы Небесной черты.
Чу! Померещится призрак в тумане,
тянет и блазнится, шепотом манит
в комнату смеха, где площадь мала.
Там - ни души, а кругом - зеркала.
В них - словоблудие, черствость и глупость,
зависть и мстительность, мелочность, скупость,
бездна злорадства и шило в мешке,
желчи напор, как в пожарной кишке.
Лживые мины, двойные стандарты,
фальши актерской краплёные карты,
ханжество, подлость, тщеславие, спесь -
всё, чем больно человечество днесь.
Ищут шизоиды, неврастенички,
ищут в реальности, на веб-страничках,
ищут давно, но не могут найти.
Этого - нет. Ни вокруг, ни в сети.
Может быть, только в забытых селеньях,
да в уходящих, увы, поколеньях
отзвуком гаснущим, эхом в горах
призрак живет. В параллельных мирах.
***
Я мысленно надену власяницу
и параллельно дам обет молчанья,
и постепенно саморастворится
мое отчаянье.
Не лопнет нить накаливанья в колбе,
не слышен треск струны в концерте сольном,
растает молча парафина столбик.
Совсем не больно.
Обойма арлекиновых ужимок,
и плач Пьеро ручьями театральный -
магический кристалл, проделки джинна,
экран зеркальный.
Не ранят фразы слабым рикошетом:
смешно, и острой жалости ожоги
прорвутся неоформленным фальцетом
в слова и слоги.
Но дан обет, и власяница колет,
а фитилек дрожит, как от озноба.
"Стоп! Снято!" - то душа в безвестной роли:
твоей - до гроба.
Игла
И не в яйце совсем, не в утке, и не в зайце -
так только в сказке про Кощея детям врут.
Моя "игла" - в твоей руке, под крышкой пальцев.
Сюжет готов. Пусть "отдыхает" Голливуд.
И в этом - странная и гибельная прелесть,
столь поздно познанной зависимости крест.
С листа жестокого романса ноты спелись:
в клавире том, уж так сложилось, ты - "The Best".
Играй иглой, сжимай питательные трубки,
приотпусти чуть-чуть и снова придави.
Не в зайце, не в ларце, яйце и утке -
в твоей ладони бьется пульс моей любви.
***
Из полуобморока вязкого,
как герр Мюнхаузен за косу,
душа, напичканная сказками,
сама себя возьмет и бросит
на землю твердую и пресную,
с до визга узнанным ландшафтом,
где столбовою, всем известною
послушно из сегодня в завтра.
Вагон наезженными рельсами,
в окошке темном смутный абрис.
Туманно, сколько-то по Цельсию,
в конце тоннеля - прежний адрес…
***
Мутные струйки на лобовом стекле,
дворников шорканье в такт песне осенней,
и, параллельно с тоской о майском тепле,
мутная горечь - где-то, там, в средостении.
Воспоминаний поток без границ и дамб -
вдруг, неожиданно, подло и страшно, словно
мыши летучие с мордами a la вамп
острые когти в душу вонзают снова.
Листа сыграть: "Утешение", ми мажор -
действенна эта музыкотерапия.
Вытеснить лишнее, выдавить за забор -
прямолинейный жест бильярдного кия.
И корвалол, от которого сохнет во рту,
но никакого эффекта - выкинуть нафиг.
Пережидая осеннюю маету,
жизни земной простой вычерчивать график.
***
Нет на свете этом Аркадии,
есть пустыня Бетпак-Дала.
Как сумела, струну наладила,
по течению поплыла.
И, пока мой напев звучит,
Непробитым останется щит.
Неуемность - порок, достоинство?
Вечный поиск. Всё, как всегда.
Что-то рушится, что-то строится
из возможного "нет" и "да".
Призрак прошлого, не маячь.
Счет "ноль-ноль". Время - лучший врач.
Так и плыть на волшебном коврике,
(а на сушу - нет, ни ногой),
забивая кресты на нолики,
не мечтать о жизни другой.
И сама унесет река
всё дурное - наверняка.
***
Гораздо глубже вдохновенных фраз,
Намного чище горного ручья
И эфемерней, чем эфирный газ
И зажигательней ламбады с ча-ча-ча,
И сокровенней самых ярких снов,
Искристей снега белой пелены,
Изящней, чем тургеневская "Новь",
Мощней китайской каменной стены,
И оглушительней иерихонских труб,
Замысловатей, чем поет бюль-бюль,
Нежнее меха соболиных шуб,
И жарче полдня в азиатский июль,
Цветистей, чем бухарские ковры,
Сложнее джойсовской белиберды,
И безнадежней жизненной игры,
Тревожней ощущения беды,
И как восьмая тона - тоньше нет,
И зыбче лодки в шторм, средь гроз и бурь,
И замудрённей вечной Книги Вед,
Бесстрашнее, чем камикадзе дурь,
Прочнее жесткой сцепки, рви - не рви,
Неотвратимей Кармы и Судьбы,
Прилипчивей, чем грипп или ОРВИ,
Разгульней русской свадебной гульбы.
И, по большому счету, всё равно,
Кому писал, подспудное тая,
Бетховен то бессмертное письмо*,
В котором "вечно твой, навек моя".
* Знаменитое письмо Бетховена "Бессмертной возлюбленной"
так и осталось неразгаданным, адресат неизвестен.
***
"Так происходит жизни шапито…"
Ербол Жумагулов
Кропать до одури, до звездочек - читать,
а петь - так до ларингофарингита.
Пройдет накат. Silentium опять.
И дюбелями дверь моя забита.
Не тормозя, беспечно сникерснуть,
в гормоны сладкой радости вникая.
Как юный мельник шубертовский - "В путь",
ну, или - Герда, что шукает Кая.
И ковылять через ковыль пешком,
степ отбивать степной под ноты стёба,
идти тишком за свеженьким стишком,
по сторонам поглядывая в оба.
Развеселит юннатовский прицел:
с натуры жизнь пишу, беря на мушку.
Волки позорные катают шлык овце,
и в "Тайд" замочена процентщица-старушка.
Всё - как всегда, и всё опять "на ять"
в посюстороннем и подлунном рае.
Кропать до одури, до звездочек - читать,
единственную партию играя.
***
Шуршит шипованная резина
асфальтом голым и задубелым -
так вдаль "Осенняя песнь" скользила
густого дня небольшим пробелом.
На пианиссимо затухают
хандры сезонные обертоны,
платком вокзальным в слезах махая,
садится в поезд ноябрь сонный.
Солнцеголовый божок в припадке
случайной щедрости небо чистит,
но скоро землю мягчайшей ваткой
снабдит зимы календарный листик.
Спит заторможенный мир под снегом,
шипы вонзятся в твердь гололеда,
и под копытом гнедой ли, пегой
Змея погибнет при смене года…
Домино
Я сегодня побуду Эвзебием,
а назавтра проснусь Флорестаном,
и не Фениксом - взбалмошной зеброю
из бумажного пепла восстану.
Раздвоюсь, разбегусь на молекулы,
чтоб гадали: душа или маска?
В тихий омут ли, в бурную реку ли -
мягкой глиной ли, сталью дамасской,
шебурша театральными ризами
и кого-то всегда раздражая,
взрослой братии гладко-прилизанной
перманентно и в доску чужая
я шагаю, иду по провинции,
глуховатой на ухо одно,
как-то так, где-то, в общем и в принципе,
не снимая своё домино.
Эльдару
"Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!"
(Иосиф Бродский)
Уцелею ли я в твоей перспективе?
На обочине где-то иль на почетном месте?
Всяк родитель - доверчив, несчастен, наивен -
как жених, угождающий вздорной невесте.
Что там будет, мой милый? Кастрюли? Книжки?
Ускользающий образ и звучный символ - мама.
Кровь заброшена в тельце твое, мальчишка,
мили нервов и новых надежд килограммы.
Я несу тебя, словно орел в анекдоте,
с упованием тайным, но без расчета.
Ведь фиксирует что-то в небесный блокнотик
справедливый и мудро-глазастый Кто-то?
Продолженье - с уже современным сюжетом?
Часть сюиты или отдельная песня?
Закипают мозги, если думать еще и об этом.
Лучше так: "Извините, итог неизвестен,
итог - неизвестен"…
Степное
"Да, Скифы - мы! Да, азиаты - мы…"
(А. Блок)
Наш дом - просторы Дешт-и-Кипчак,
тулпары* - скоры, кровь - горяча.
Мы, привязав к колыбели чад,
в пути не дремлем.
Глаза в прищуре, и тонок стан,
и кто с добром к нам из дальних стран,
мы с тем зароем свой алдаспан**
в родную землю.
Мы любим - просто, летим в костёр,
нам балдахином - небес шатёр,
и каждый третий из нас - актёр,
влюбленный в звуки.
Домбру сменили мы на "Starsun"***,
"Да будет светлая полоса", -
так пел печальный мудрец Асан
о Жер-Уюке.****
За око - очи, за зуб - десну,
мечом размашисто полоснув.
Мы ввысь отправим, согнув сосну,
душпанов***** души.
И где распрыскан гадючий яд,
мы очищенья огнем обряд
устроим, после в седле назад
не обернувшись.
* Тулпар - крылатый (или летящий) конь в тюркской мифологии
** Алдаспан - разновидность меча.
*** Название гитарной фирмы
**** Согласно преданию, прославленный сказитель XV века Асан-Кайгы
(Асан Печальный) безуспешно искал обетованный край - Жер-Уюк.
***** "Душпан" (каз.) - враг.
***
Загадочный союз: Шопен - Жорж Санд,
как что-то с чем-то там, и сбоку бант.
Подобное с подобным не контачит.
В штанах, с сигарой, вся - эмансипе,
и с кайфом ловит шиканье в толпе,
а он - прелюд играя, горько плачет.
И что в нем было дорого тебе?
В житейском море он ни ме, ни бе,
как тот младенец в люльке, с погремушкой.
Его мазурки с шиком назовут
"в цветах стальными пушками"* (капут!),
тебе ж - печально "поправлять подушку".
Ах, этот нежный, тонкий Фридерик!
Его недуг наследственный постиг,
а "Жорж" - коньячной крепости и силы.
Экспромт напишет, ляжет на диван,
и пылкая Аврора Дюдеван,
присевши рядом, тихо шепчет: "Милый…"
Такая-растакая селяви,
шедевры все родятся от Любви,
"Графиня Рудольштадт" ли, "Консуэло"…
И грустно, что в конце - всегдашний пшик:
с обычной бабой спит простой мужик,
а, может, и не спит - не в этом дело…
* "Это пушки, спрятанные в цветах" (Р. Шуман)
Дьявол не носит Prada
Дьявол не носит "Prada".
Гость из Эдемского сада,
с древа - ползучим гадом -
в души людские влип.
Волком с личиной-овчиной,
женщиной ли, мужчиной,
классным, как Аль Пачино,
стильной, как Мерил Стрип,
тайно, вне света рампы,
ласково, тихой сапой,
кошкой с тигриной лапой,
бесом хромым в ребро -
сладким дурманит ядом,
сердце пронзает взглядом,
Рай обращает Адом,
Злом подменив Добро.
Мыслью, словом ли, делом,
кровью чужой ли, телом,
клавиатурой, мелом -
демон с тобой грешит.
Слабый падёт без боя,
выбывши вмиг из строя -
тот, кто неладно скроен,
из лоскуточков сшит.
Но, сколь ни вей веревку,
совесть глуша неловко,
ложью, как из винтовки,
целя себе же в лоб -
грянет когда-то финиш:
перегоришь, остынешь,
и, протрезвев, раскинешь
мозгом, сказавши "стоп".
Пикой и акинаком,
животворящим знаком
в утро по Пастернаку,
сам себе - экзорцист.
Сгинуло чертово семя.
Ровно струится время,
вновь - "на коне", и "в теме".
Снова - как чистый лист.
***
Где-то пела виола д`амур
низким рокотом
канцонетту в настройке C-dur,
полушепотом
устилая, как встарь, скользкий мост
по-над пропастью,
собирая с усилием в горсть
ноты прописью.
И разлома та линия нас
ближе прежнего
сводит вместе. Бессилие фраз
сердца нежного
достучится ли сквозь частокол
недоверия,
чтоб дуэтом с виолой легко?
Ночь. Мистерия.
Не финальных аккордов тупик -
нет, не верится.
Обернется задушенный крик
чудо-мельницей.
До микрон перетрут жернова
боль соленую.
Произносят простые слова
все влюбленные.
***
Тихое умиленье нисходит со свежим снегом.
Горки и ёлки, лыжи, коньки, снегурки.
Давит сочувствие к детям экватора - неграм.
Плюс - к египтянам, индонезийцам, туркам.
Лето круглогодично - экое невезенье!
Ни гололёда, ни на балконе пельменей,
заиндевевших ресниц, вьюги сольного пенья,
бури и мглы, что восславил курчавый гений.
Скушно и душно там, да без кондишена - ужас.
"Марш alla Turca" с "Аидой", спиричуэл: всё - мимо.
"Зимние грёзы", ЧАЙковский с ПроКОФьЕвым, стужа
и "Едыгей буранный" - в кассу, и сердцу мило.
Кесарю, слесарю, магу, певцу, таксисту
здесь хорошо, где воет привольный ветер,
здесь, где снежок новогодний, девственно-чистый
перекрывает мечту о северном лете…
***
На грани с малокровным нездоровьем,
на рубеже манящем и опасном,
лексически - меж словом и бессловьем,
спектрально - между розовым и красным,
эквилибрист небрежный и неловкий,
лесного Пана нервная сиринга,
раствор слабейший божьей марганцовки -
потешные никчемные фламинго -
всё это мы, рабы и властелины
словес летучих, фраз и междометий,
и выбьешь разве журавлиным клином
желанье петь в безумце и поэте?
Нет, отшибает пальцы - блюз по нотам,
и заливает горло - жир мещанства,
но вожделенье страстное джек-пота
диктует нам режим и постоянство.
И хаос, шевелящийся упруго
в мозгу идущих зыбко по канату,
вмиг загоняет в квадратуру круга
и назначает неземную плату.
Поэт и цензор, бука Майерхофер -
не так ли ты шагнул тогда с карниза?*
Стих - с барского стола объедков крохи.
А жизнь - игра, халтурка, антреприза.
* Иоганн Майерхофер (1787-1836) - поэт-романтик, 47 стихотворений которого
легли в основу песен его друга Франца Шуберта. Служил цензором.
Покончил с жизнью, выбросившись из окна своего рабочего кабинета.
***
глупый шарик пинг-понговый
шарик земной
взрыв батальными гонгами
очередной
тишины пролонгация
упразднена
вены кровными братцами
вскрыла весна
казаки и разбойники
кнопочка play
кровью харкают хроники
сумрачных дней
перекошена ступица
в хлам драндулет
шарик вертится-крутится
между ракет…
***
это делается "во благо"
обсуждается каждым блогом
терпит муки вранья бумага
исполняя заветы бога
и в бредятине суматошной
отдохнуть не дают фонтанам
роковой прожужжал дисторшн
с откровенностью рваной раны
льет как сволочь июль сибирский
льются реки свинцовой лажи
облака нависают низко
солнце ясное глаз не кажет
попрощались славянки маршем
дружка с дружкой в кровавой сечи
и даждьбог подгорелой кашей
нерасхлёбанной с неба мечет….
***
Я провожу по твоей руке
касаньем легким, бесплотно-нежным,
Равель вполголоса вдалеке
"Ночным Гаспаром" смыкает вежды.
Синкопы резкие - не беда,
горит былое в пожаре строчек,
и дней проносится череда
известной музыкой sotto voce.
Я говорю, что никто, как ты,
меня не видит, не ждет, не знает.
Ржавеют цепи, горят мосты,
и души к небу летят в раздрае.
Но где-то в горних, когда уйдем
парить бесстрастно и бестелесно,
мы попытаемся вновь вдвоем
продолжить нашу земную песню…
***
Калачи мои бараночки,
не батон из отрубей.
Спит в гробу хрустальном Панночка -
не разбудишь, хоть убей.
Гул гремучий вполз безвизово,
подземельный клич-уран*,
слезы с лиц покорных слизаны:
спи, бедняга, сыт и пьян.
Потерпи еще два годика,
и до вас дойдет черед,
скоро мать родная Родина
крошки с пола подберет.
"Не закрыты, не задраены
люки-злюки", - звон-молва.
Вновь баюкает размаянных
царь Морфей и сон-трава...
* "Уран" (каз.) - призыв, клич.
***
Напиши пару строк без прикрас, малой прозой, по мейлу.
Это больше похоже на правду, чем сонмы стихов
про Ромео с Джульеттой там, или Меджнуна и Лейлу,
Кыз-Жибек с Толегеном, и прочих влюбленных лохов.
Ты же знаешь, как быстро горит подожженное сено?
Пламя ввысь до небес - и несчастная кучка золы.
Так зачем же опять пробивать возведенную стену,
вызывая ушедшие тени из призрачной мглы?
Есть друзья и подруги, там всё обозримо и ясно.
Нет коралловых рифов, с опасностью врезаться в мель.
А душа - это воск, но еще не топленое масло.
Не загнать ее в тюбик, как жидкий податливый гель.
Наши жизни идут установленным курсом в реале,
а "высокая степень безумства" - зира с куркумой.
Если чувства, как желтые листья, еще не опали,
напиши. Ты же помнишь е-мейл незатейливый мой.