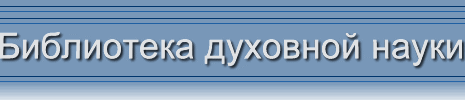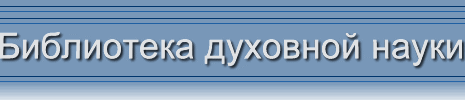В контексте антропософской духовной науки в книге раскрывается содержание некоторых образцов творчества позднего Мандельштама и тем самым определяется подход к интерпретации языка его образов. Путь, пройденный Мандельштамом, в освещении автора показывает причастность поэта к глубоким таинствам христианской жизни.
Бог создал сновидение, чтобы указать путь
спящему, глаза которого во мраке.
Изречение египетской мудрости
В ХХ веке как общий симптом распада культурной целостности ясно обозначилась проблема доступности произведений искусства пониманию широкой публики. Так было не всегда. В эпохи более ранние такое просто не могло иметь место. Ещё на исходе Средних веков в Европе, включая и Россию, содержание, скажем, фресок на стенах церквей и монастырей было известно каждому. Библейские сюжеты и образы, оживавшие под кистью различных мастеров, были легко узнаваемы. Люди могли сравнивать изображения на известную тему, видеть разницу в исполнении, замечать достоинства одних, недочёты других, и так, незаметно открывать для чувства область, поднимающую человека над повседневностью (как это в своём роде делает культ). Когда же художник сам стал источником своих сюжетов и образов, а с XX века каждый заговорил вообще на своём, отличающем его одного языке, вполне герметичном, человеку неискушённому в вопросах творчества искусство вовсе перестало быть внятным. Смысловое содержание, с которого начинается проникновение в произведение искусства, XX век превратил в загадку. Что именно изображено художником, о чём говорит поэт – это простой человек теперь сплошь и рядом перестал понимать. Такое положение вокруг художественной практики установилось впервые.
В этом отношении в русской поэзии ХХ века никто не создал столько проблем, – при чём не только для широкого круга читателей, но и для специалистов, – как некоторыми своими произведениями Осип Мандельштам.
Таинственная размытость очертаний ранних стихотворений Мандельштама, тогда отнюдь не лишавшая их «понятности», сменилась в позднем его творчестве жёсткостью и смысловыми разрывами. Темнота содержания стихотворений этого периода стала возводиться – без умысла со стороны поэта – в законное средство языка, но для читателя, бессильного проникнуть в тайный смысл его возвещений, – едва ли не в норму. Опасная тенденция, если бы она вышла за пределы творчества одного поэта и утвердилась в читательском сознании в качестве таковой! Поэзия, которая, вопреки смысловой своей непроницаемости, сохраняет для читателя признаки подлинности, подводит к отказу от понимания как способа проникновения в художественный текст. Утверждается даже мнение, что художественное постижение тем глубже, чем меньше оно имеет общего с пониманием. Читателю/зрителю предлагается освободиться от той по умолчанию считавшейся прежде необходимой предпосылки, что понимание необходимо, а непонимание – недостаток. Ущербная для культуры чтения установка эта отменяет дистанцию между читателем и текстом и вместо созерцания переживаемого содержания погружает в недифференцированные, непросветлённые смутные ощущения и домыслы по поводу текста.
Здесь будет предпринята попытка сделать некоторые образцы творчества Мандельштама понятными в контексте антропософии, духовной науки, развитой Рудольфом Штейнером в 1902 – 1925 гг.
Антропософия исходит из признания реальности духовного мира, который может быть предметом точного исследования, как и мир, чувственно данный человеку, но – в своём роде. Средства, необходимые для исследования сверхчувственных областей бытия, может приобрести каждый путём развития заключённых в природе человека сил (хорошо известных в древности, но затем постепенно забытых). Рудольф Штейнер описал эти средства и способы их развития в своих трудах и многочисленных лекциях, открыв тем самым новую эпоху в духовной жизни человечества. Он сам представил современному культурному миру данные проведённых им исследований в областях сверхчувственно воспринимаемых. Данные эти представляют основание развивающейся духовной науки. Они могут послужить ключом к предпринимаемому ниже исследованию творчества О.Э. Мандельштама.
Такому исследованию не препятствует отрицательное отношение самого Мандельштама к антропософии, заявленное в статьях 1920-х годов – «Скрябин» (1917), «О природе слова» (1920) и в особенности – в рецензии «Андрей Белый. Записки чудака» (1923). Антропософия в круг его интересов не входила. Он и позднее не обращался к текстам, от которых в те годы отстранился (если, конечно, держал их в руках, а не определял своё отношение к ним, как, скорее всего, и было, понаслышке), и тем не менее он встречается или, лучше сказать, смыкается с антропософией на тех высотах, на которые, следуя своим интуициям, взбирался. Мандельштам проходил некоторый путь.
* * *
21 октября 1920 года, вернувшись в Петроград из скитаний на юге, Мандельштам читал свои стихи в Клубе поэтов на Литейном. На вечере присутствовал Александр Блок, который под впечатлением от услышанного сделал дневниковую запись (часто цитируемую в литературе о Мандельштаме): «Гвоздь вечера – И<осиф> Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос, …виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только». Впечатление было более чем подкупающим – Блок в записи сопоставляет Мандельштама с собой: «Гумилёв определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему)»,– уточняет Блок для себя (1. – Блок А. Собрание сочинений. Т. 7. М.;Л., 1963. С. 371).
Наблюдение Блока не было в должной мере оценено в литературоведении, и это понятно – оно избегает переступать черту, отделяющую произведение искусства от человека, которому последнее обязано своим возникновением. В отзыве Блока на стихи Мандельштама существенна оговорка, уточняющая произведенное на него впечатление. Они «возникают из снов, – записал Блок и продолжил: – лежащих в области искусства только». Блок будто поправляет себя: сновидческое в стихах Мандельштама не следует принимать за перевод увиденного во сне на язык поэзии. Это сама поэзия творит сны, и хотя в этом, собственно, и заключается её природа (Блок усматривает, что они с Мандельштамом в этом сходятся), всё же сновидческое в стихах Мандельштама слишком бросалось в глаза современникам. Сходную с Блоком мысль о сновидческом элементе в стихах молодого Мандельштама высказал и Н.Н. Пунин. «В своём ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн»,– писал Пунин после выхода в свет второго сборника стихотворений Мандельштама «Тristia» в Берлине в 1922 году (2. – Пунин Н.Н. Мир светел любовью. М., 2000. С.3).
Мандельштам и сам косвенно признавал какую-то роль сновидческого элемента в собственном творчестве, будто не знающего границ между своим и чужим:
Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны.
Лёгкость, с какой это признание было сделано, вовсе не значила, что сочинение стихов давалось Мандельштаму столь же легко. Он с трудом «припоминал» единственно нужные слова и строки. Многие впоследствии вспоминали его блуждающим среди бела дня как во сне – сосредоточенного на звучавшей, но никак не облекавшейся в слова ноте и позабывшего обо всём остальном.
Образы его стихотворений тех лет зыблются, будто снятся:
Веницейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло:
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло…
Названные, но чётко не очерченные вещи, будто тонут в сгустившемся воздухе. Их трудно отнести вполне к миру трёх измерений, из которого они взяты. Они примыкают друг к другу скорее, как во сне, с тем лишь отличием, что интонационно подразумеваемая связь их – создание не сна, а интуиции, прямому выражению не подлежащей. Будто главное – между ними, и если это не пространство самой Вечности (притязание на близость к которой вольным своим обращением так отталкивало акмеистов в символистах), то область длящегося, пребывающего:
И Сусанна старцев
Ждать должна –
– последние строки стихотворения, слышанного Блоком на вечере в чтении Мандельштама, имеют в виду картину Тинторетто на библейский сюжет «Сусанна и старцы». Художник запечатлел сцену, которая не могла продолжаться долго, но мгновение остановлено и длится.
Отсюда идёт отмечаемая многими магия стихотворений первых сборников Мандельштама. Он завоёвывает стихами область, в которой обычно безраздельно царит сон. Стихи вторгаются в область сновидения, а не сновидение в область стихов.
* * *
Сновидческий уклон раннего Мандельштама развился сам собой и ограничивался чисто художественными задачами, и если по мере созревания его мысль проникала в более глубокие слои бытия, то в конечном итоге это и определило перелом в его творчестве, который ясно обозначился уже при начале 1920-х годов.
В мае 1919 года, соединив свою жизнь с Надеждой Хазиной, Мандельштам, – ему тогда шёл 29-й год, – переступил порог возмужания, но также шагнул в ужасавшую его прежде пустоту окружающего пространства. В стихах его проступает не характерная для них прежде жёсткость.
Н.Я.Мандельштам [далее Н.М.] в первой книге своих воспоминаний признавалась, что творческая работа мужа продолжительное время оставалась для неё за пределами поля зрения. «Вначале – с 19-го по 26 год – я даже не догадывалась, почему он стал таким напряжённым, сосредоточенным, отмахивается от болтовни и убегает на улицу, во двор, на бульвар… Потом сообразила, в чём дело, но ещё ни во что не вникала.»(3. – Н.М. Воспоминания. М., 2006. С.207) Семь лет, с 1919 по 1926 год, срок для совместной жизни немалый, и если в течение всех тех лет Мандельштам держал свою верную спутницу на расстоянии от совершавшейся в нём работы, то для этого у него были, надо думать, достаточно веские основания. Между тем, именно в те годы, точнее – в 1922 – 1923 гг. – были написаны рубежные для него вещи – «Нашедший подкову» и «Грифельная ода».
В первой из них, «пиндарическом отрывке», написанном свободным стихом, Мандельштам рефлектирует над созданным прежде, над жизнью, над самим собой, но завораживающая магия стихотворений прежних лет здесь сохраняется. «Грифельная ода» создавалась следом (или одновременно, но окончена была всё же, согласно датировке, в начале 1923 года), уже в новом ключе. От прежней лирической интонации в «Грифельной оде» не осталось и следа, а написана она тем же Мандельштамом, который писал «Нашедший подкову». Всё это прошло для Н.М. тогда совершенно незамеченным.
На этом именно рубеже Мандельштам вступает в полосу глубокого творческого спада. Он пишет всё меньше, а в 1925 году его поэтический голос вовсе пресекается. Когда же в 1930 году, после поездки в Армению, мучительная пауза окончилась, и работа возобновилась, он ведёт её, в основном, в русле, проложенном «Грифельной одой». Похоже, что в 1923 – 1930 гг. он внутренне осваивается в областях, в которые только что проник.
К тому времени близость Мандельштамов, повидимому, также обрела ту степень нерасторжимости, которая позволила поэту допустить спутницу своей жизни ближе к участию в создании новых своих произведений. Часть работы, которая производилась в её присутствии (дек. 1929 – нач. 1930 гг., Мандельштам работал над «Четвёртой прозой»), в её описании выглядела, например, так: «После одиннадцати…Мандельштам, выпив своего чая,.. ложился на кровать и тихонько лежал, наслаждаясь тишиной. Я погружалась в дремоту, но, чуть подступал первый сон, Мандельштам будил меня: «Надик, не спи…» Я открывала глаза, и он сразу начинал диктовать. «Надик, не спи, ты же можешь встать, когда угодно, а я без тебя не могу…» Я писала на клочках бумаги…большим, детским, потому что со сна, почерком, безграмотно, но разборчиво. Работа кончалась к утру». (4. – Н.М. Вторая книга. М., 2001. С.385) Она и впредь оставалась свидетельницей творческого процесса мужа. Она наблюдала его с самого близкого расстояния, но, как видно из её книг, близость к творческой его работе не дала ей почти никакого преимущества перед рядовым читателем, а также исследователем, в толковании «трудных» текстов Мандельштама. Она и сама говорит об этом своём положении при муже-поэте: «…он не раскрывал хода стиховых ассоциаций, стихов вообще не комментировал» [5. – Н.М. Воспоминания. М., 2006. С.83]. Когда впоследствии ей самой случалось комментировать их, она делала это, выдвигая версию, как любой другой исследователь творческого наследия Мандельштама. Мир, из которого Мандельштам добывал наиболее загадочные из своих стихов, был открыт ей не более, чем всем другим.
Сочинял ли Мандельштам ночью, когда у соседей устанавливалась тишина, или на ходу днём, или же, по рассказу Н.Е. Штемпель, днём же, сидя на постели (воронежский период) (6. – Наталья Штемпель. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. М., 1992. С.63), сочинительство оставалось для него тем же, что и прежде, – припоминанием, которому тишина помогала, но и самый уличный шум не мог помешать. «У меня создалось впечатление, – писала в продолжение своих наблюдений Н.М., – что стихи существуют до того, как они сочинены…Весь процесс сочинения состоит в напряжённом улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слове. Последний этап работы – изъятие из стихов случайных слов, которых нет в том гармоническом целом, что существует до их возникновения. Эти случайно прокравшиеся слова были поставлены наспех, чтобы заполнить пробел, когда проявляется целое». [7. – Н.М. Воспоминания. 2006. С.88] – Так работает медитант, отстраняя вкрадывающиеся посторонние мысли, а успевшие проникнуть изгоняя. Художественная практика Мандельштама – своеобразная разновидность эзотерического пути, который он проходил в последовательности, определяемой законами этого пути – первоначально восхождение к имагинации (в ранних стихах), затем – проникновение в более высокую область духовного слуха в инспирации, к которой в виду выраженной музыкальной одарённости он был особенно предрасположен. Зрелый Мандельштам потому и дистанцировался от своих более ранних произведений, что теперь лежащие в их основе опыты были ему чужды, а не потому, что он видел в них какой-либо изъян. Сновидческая природа творчества Мандельштама проявлялась в более поздних стихах иначе.
Грифельная ода
Мы только с голоса поймём,
Что там царапалось, боролось…
Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок –
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.
Мы стоя спим в густой ночи
Под тёплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.
Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье,
И всё-таки ещё гряда –
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время –
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.
Как мёртвый шершень возле сот,
День пёстрый выметен с позором,
И ночь-коршунница несёт
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!
Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует:
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот –
Изнанка образов зелёных –
Вода голодная течёт,
Крутясь, играя, как зверёныш.
И как паук ползёт по мне –
Где каждый стык луной обрызган.
На изумлённой крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твёрдой записи мгновенной,
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.
Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной!
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твёрдой почве!
И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая встык –
Кремень с водой, с подковой перстень.
Принято считать, что в генезисе «Грифельной оды» роль толчка сыграла ода Державина «На тленность», выведенная слабеющей рукой поэта на грифельной (чёрной аспидной) доске за два дня до смерти:
Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.
Доска с записью стихотворения сохранилась, и Мандельштам мог видеть её, предположительно в свой приезд в Петроград в 1920 г., в Публичной библиотеке (ныне Российская Национальная библиотека), где она хранится в Отделе рукописей.
По мысли, выраженной Державиным в оде, Вечность предъявляет свои права на творения человеческого духа, и самый этот дух обречён на исчезновение в ней без остатка. Мандельштам с младых лет любил творчество Державина и оду «На тленность» знал давно. Однако гедонизм дворянского века и его неутешительный итог у Державина не принадлежали к жизненному credo Мандельштама. Очевидно, лишь в силу своей любви к творчеству патриарха русской поэзии он не мог пройти мимо декларированного им в предсмертной оде релятивизма. Ещё в 1913 году 19-летний Мандельштам откликнулся на восемь державинских строк стихотворением «Отравлен хлеб и воздух выпит», которое заключил так:
И если подлинно поётся
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает – остаётся
Пространство, звёзды и певец.
Инструментам поэзии у Державина, «лире» и «трубе», Мандельштам противопоставил самого певца, то есть его голос. То, что у Державина подлежит исчезновению в противостоящей человеку, если не прямо враждебной ему, вечности, его деяния и сама поэзия, у Мандельштама остаётся, ибо поэзия сама причастна вечности. Старческой морали Державина юный Мандельштам противопоставил звонкую уверенность в сохранении вечного ядра человеческой индивидуальности и её творений.
Иное дело чёрная доска с нанесёнными на ней письменами – она могла навести Мандельштама на образ звёздного неба, которым его «Грифельная ода» открывается. Но связь всё же, скорее, иная. Возражая Державину, Мандельштам окончил своё стихотворение указанием на [небесное] пространство и звёзды как совокупный образ незыблемости бытия. И если по ассоциации идей, спустя десять лет в первых строках «Грифельной оды» он к нему вернулся, то всё же в 1922/1923 году звёздное небо он видит иначе, чем в 1913., и вовсе не по Лермонтову, от которого, перефразируя строку «Сквозь туман кремнистый путь блестит…» из стихотворения «Выхожу один я на дорогу», тоже отправляется.
Возбудившим творческую мысль Мандельштама на этот раз был мощный образ «реки времён». Связь с державинской одой по этой линии очевидна и в литературе о «Грифельной оде» отмечена. Но если метафора эта и была принята Мандельштамом во внимание при работе над собственной одой, то переосмысление её увело его мысль далеко от предполагаемого источника. Ведь водный поток, на поверхности которого в быстрой смене возникают образы оды, несётся вовсе не в небытие, как у Державина. Он ничего в «пропасти забвенья» у Мандельштама не топит, а скорее выносит на поверхность обрывки впечатлений, набегающих друг на друга, создавая к тому же эффект непосредственного присутствия. Река эта не перегораживает путь, не разделяет двух берегов, её не требуется преодолевать. Она будто стекает с какой-то возвышенности, набирает скорость и увлекает авторское Я за собой.
Нельзя не заметить, что поиск истоков тем и образов Мандельштама в последнее время ведётся во внеположных к его творчеству областях. Насыщенность его аллюзиями на произведения поэтов-предшественников неоспорима. Однако прямая цитата обременила бы его тяжёлым грузом. Творческий импульс возникает, скорее, через отталкивание от известного, чтобы проникнуть в оставшиеся неизведанными предшественнику слои бытия. Так обстоит в «Грифельной оде» с аллюзией на лермонтовское «Выхожу один я на дорогу».
У Лермонтова
И звезда с звездою говорит
– чистая лирика, она делает происходящее в высоком небе близким и внятным человеку.
У Мандельштама –
Звезда с звездой – могучий стык.
До него в поэзии так бестрепетно о звёздах нельзя было бы сказать.
Звёздное небо всегда было предметом озабоченного внимания Мандельштама. Но в том эпическом созерцании неба, которым он заканчивает своё возражение Державину, он видит звёзды, пожалуй, иначе, нежели в «Грифельной оде». Ясно, что в оде он ими отнюдь не любуется, не замирает в восхищении перед красотой открывшейся пред ним ночной бездны. Он видит в небе поле силовых взаимодействий звёзд, будто плотно пригнанных друг к другу. Речь идёт не о звёздах, усеивающих ночное небо, но о созвездиях. Но что заставляет его видеть их так? Откуда он смотрит на них и, в конце концов, то же ли это пространство, из которого мы на них смотрим?
Один из исследователей оды отметил в стихах первой её строфы присутствие трёх из четырёх классических для Запада элементов – земли (кремня как олицетворения твёрдости «земли»), воды, воздуха. [8. –Седых Г.М. Опыт семантического анализа «Грифельной оды» О.Мандельштама. //Филологические науки. 1978. №2. С.17] Из элементов, по убеждению древних, не исчезнувшему и в Средние века, построено мироздание. Правда, в оде названные элементы представлены не так, чтобы глаз сразу их различил. Авторское Я не столько их видит, сколько ощущает их присутствие в пространстве, которое они организуют. Это наводит на мысль, что и звёзды видятся ему в пространстве, где становятся воспринимаемыми элементы.
Из четырёх элементов не названным остался огонь. Так произошло не по недосмотру автора. Огонь, от которого согласно учению об элементах происходят остальные, здесь не воспринимается. На это существует своя причина. Огонь проникает всё, включая и прочие элементы. Поэтому различить его можно только там, где он проявляется отдельно от них, а для этого над ними надо подняться. Авторское Я этого поначалу не может. Оно ощущает себя связанным с тремя низшими элементами, и поскольку это так, говорит о себе вначале не Я, но мы:
Мы стоя спим в густой ночи…
Сознание авторского субъекта, и вместе с тем действие оды, перенесено в область сна. Отсюда и динамика оды, и это есть, как нетрудно догадаться, динамика тех состояний, через которые проходит спящий. Мандельштам каким-то образом их знает. Он не рассказывает в оде приснившийся сон. Собственными своим средствами, – быть может, они были даны ему, и он развил их в художественной практике, – проникает он в эту, обычно покрытую ночным мраком сферу, из которой формируется сновидение, и даже глубже, и подсмотренное и подслушанное (неведомо – для нас – как) интерпретирует. Это было, по-видимому, нечто среднее между сновидением и бодрствованием. Мандельштам мог наблюдать сновидение, и образы последнего были в своей чистоте более точными, чем обычно, и потому поддавались интерпретации.
* * *
В то время как «Грифельная ода» возникала у Мандельштама (работа над ней, напомним, окончена была в марте 1923 г., но в оде упомянуто «грифельное лето»), летом – осенью 1922 года Рудольф Штейнер читал в различных городах Европы лекции, сквозной темой которых были переживания человека во сне.
О переживаниях души по отделении от тела при засыпании Рудольф Штейнер говорил и раньше. Однако лекции 1922 года выделяются определённо преобладанием этой темы и настойчивым её углублением.
Штейнер различает три стадии сна, дифференцированные соответственно содержанию переживаемого и углублению спящего в пространства Макрокосмоса:
1. первый, лёгкий сон со сновидениями (Я спящего вместе с астральным телом пока остаётся вблизи физического и эфирного тел, смотрит на них «сверху» и «извне», а, по сути, видит их изнутри);
2. сон без сновидений, более глубокий (спящий приходит в более тесную связь с царствами Земли, изнутри переживает их, тогда как днём, пользуясь органами физического восприятия, видит их извне);
3. наиболее глубокий, третий род сна (спящий достигает «неба неподвижных звёзд», Зодиака, после чего пускается в обратный путь, к пробуждению в теле).
В «Грифельной оде» отражены опыты спящего на всех трёх названных стадиях сна. Из них наиболее значимыми для Мандельштама были опыты третьего рода, впечатления от которых вынесены в начало оды.
* * *
Переживания Я и астрального тела по выходе из тела физического по обыкновению до сознания не доходят, так как дневное сознание во сне погашено. Это вовсе не значит, что их нет. Душа спящего проходит через ряд ночных опытов, которые Штейнер описывает так, как если бы душа могла отдавать себе отчёт в переживаниях этого своего ночного пути: «Бессознательные душевные состояния и душевные переживания будут описаны так, как будто они были сознательными», – говорит Штейнер, объясняя способ предстоящего изложения данных своего сверхчувственного исследования [9. – Rudolf Steiner Gesamtausgabe (далее GA), Band 25. Kosmologie, Religion und Philosophie. Zehn Autoreferate zur Franz?sische Kurs . Sept. 1922. S.41].
По выходе из бодрственного состояния в сон, душа утрачивает не только дневное сознание, но и ту форму, которую ей на земле даёт тело. Ей надо освоиться в непривычном мире, прийти в нём, так сказать, в себя, и на это уходит, по Штейнеру, первая стадия сна. «…поначалу человек внутренне находится в неопределённом, недифференцированном состоянии» Привычное. «различие между собственным бытиём и бытиём мира при этом не переживается; также нет различия между отдельными вещами и существами. Человек находится в некотором общем, туманном (nebelhaften) состоянии…Человек вышел из чувственного мира, но ещё отчётливо не перешёл в другой мир» [10. – Там же. S. 40] Все границы, благодаря которым человек в теле прежде всего замечает себя и мир, исчезли, но кое-что нкаступает взамен. «Душа переживает себя в этот период не в качестве единства, но как внутреннюю множественность». Но и этим не исчерпывается состояние души по вхождении в область сна. Сверх того «состояние это пронизано боязнью. Если бы оно переживалось сознательно, то выражалось бы в душевном страхе. Реальное подобие этой боязни человеческая душа переживает, однако, каждую ночь». [11. – Там же.S.42]. «Страх перед неизвестным, неопределённым, недифференцированным охватывает спящего» на первых порах [12. – GA 218, 12. 11. 1922. S.130]. Атмосфера страха, собственно, и окутывает начало «Грифельной оды»:
Здесь пишет страх…
Однако Штейнер в продолжение темы добавляет: «В это мгновение в душе нечто пробуждается. С помощью выражения, взятого из [дневного] сознания, это можно назвать тоской по божественному» [13. – Там же, S. 130]. В другом описании того же переходного состояния Штейнер показывает, как начинается своего рода пробуждение во сне:: «В этот момент состояния сна для современного человека наступает душевно-целительное действие того, что он в состоянии бодрствования переживает как свою приверженность к Христу. До События Голгофы это происходило для людей иначе. Из своих религиозных исповеданий они в состоянии бодрствования получали средства, которые затем действовали в состоянии сна и были средством против боязни. Вместо этого у человека, живущего после События Голгофы, выступают религиознее переживания, которые он имеет от созерцания жизни, смерти и существа Христа. Благодаря их воздействиям он во сне преодолевает боязнь.» [14. – Kosmologie… GA 25. S.42]
Ощущение множественности вместо единства собственного земного «Я» в первой стадии сна возникает, возможно, как наследие древних, в основном уже пройденных человеком ступеней развития в лоне групповой душевности. В прошлые времена, когда человек был членом какой-либо основанной на кровном родстве общественной группы, принадлежность к ней служила для него убежищем и от ночных страхов. Групповая душа не оставляла его и во сне [15. – GA 218. S. 133-134]. Остаток такого группового сознания примечательным образом весьма определённо царит в начальных строфах «Грифельной оды»:
Мы стоя спим в густой ночи
Под тёплой шапкою овечьей…
Упоминание характерного головного убора, под которым прячется, кажется, целое групповое сообщество, отсылает, собственно, не к предмету и не к материалу, из которого он изготовлен, а к тем, кто под шапкой находится, – это всё овцы, и авторское Я – одна из них. Индивидуальное сознание разве что брезжит, растворённое в групповом:
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок…
Похоже, что пребывание в группе некогда обеспечивало прохождение некоей Школы, и авторское «Я» смутно помнит об этом, но такое время миновало, и в остатке – похожий на бред сон, перемежающийся принудительными пробуждениями. Неведение – пристанище, но и удел «овец». «Овцы» – традиционный образ сбившихся в кучу душ.
Присутствие в мире Христа помогает преодолеть ощущение множественности, в которую душа первоначально была включена или в которую она теперь во сне впала. «Водительство Христа объединяет внутреннюю раздробленность, множественность в единство. И теперь душа достигает иного внутреннего бытия, чем в состоянии бодрствования». [16. – GA 25. S.42]
Отголосок укрепляющего душу в мире сна касания Существа Христа содержит у Мандельштама строка:
Им проповедует отвес…
Отвес – натянутая под тяжестью груза нить – устанавливает строгую вертикаль между верхом и низом. Так с его помощью, – с помощью его «проповеди»! – душа получает возможность занять надлежащее положение в мире, где ей уже не помогает это делать тело (тоже выпрямленное между верхом и низом на земле).
*
Собственно сновидения встают перед очами души уже в момент засыпания, но обычно запоминается снившееся при пробуждении. Даже сновидения очень большой продолжительности возникают мгновенно (в тот момент, когда астральное тело с Я касаются при возвращении из ночных своих странствий эфирного тела), но взгляд успевает обежать их, как будто переживание длилось. Оно длилось, поскольку сновидение выстраивает свою версию пережитого в глубине сна.
Сновидческую в собственном смысле часть оды открывает панорама гористого ландшафта с селениями на уступах гор, со стекающим вниз потоком, в III строфе:
Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье…
Планы намечены, но размыты, весь ландшафт тонет в предрассветных или вечерних сумерках.
В описании Штейнера, душа при начале сна, но также по оставлении тела в ходе посвятительного процесса, видит прежде всего собственное оставленное ею физическое тело: «Когда для человека в первый раз восходит духовный мир, он видит сначала собственное своё физическое тело» [17. – GA 266/1. 15. 05. 08. S. 373]. Однако физическое тело видится из-за Порога духовного мира иначе, нежели в состоянии бодрствования. Природе ночного сознания, пришедшего на смену дневному, соответствует восприятие всего происходящего в образах. «Вам может сниться, что вы проделываете какой-нибудь путь. Восходите на гору. Вы входите в горную пещеру. Поначалу всё покрыто сумраком. Темнеет. Неведомое влечение заставляет вас идти дальше и дальше» [18. – GA 211. 24.03.22. S.33 ]. Картина, которую здесь набросал Рудольф Штейнер, – только пример, быть может типичный, но Штейнер не прибегает к обобщениям. В том же ключе, но несколько иначе, основываясь на собственных опытах, передаёт первые впечатления, доходящие до образного сознания спящего, В. Й. Штейн, ученик Штейнера: «Когда во сне достигаешь более высокого сознания, мозг представляется подобным всей Земле с её горами, долинами и т.д.» [19. – Die Drei. Febr. 1926. S. 856]. Взгляд сновидца падает на наиболее консолидированную часть своего физического тела, голову и идентифицирует её с телом Земли. Этот же образ, поэтически интерпретированный, появляется в III строфе «Грифельной оды».
Доминанта некоей групповой общности, ясно выраженная в начале оды, позволяет понять, что ода развёртывается в плане генезиса индивидуального Я из группового. В строфе III индивидуальное это Я, уже будто отделённое от мы, видит этих мы со стороны и говорит они в виду воздействий, которые на них оказывают элементы. Элементы не только организуют пространство, они носители активного действия, направленного на «овец»:
Вода их учит, точит время –
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми…
Не сказано, к чему ведёт действие элементов, но следует заметить, что после трёх начальных строф возвращения к «овцам» в оде не происходит. Начиная со строфы IV действие разворачивается вокруг отдельного, но ещё не сознающего своей отдельности, себя ещё не замечающего Я.
Строфа IV ясно показывает, что действие продолжает развиваться в пространстве сновидения. Драматическая коллизия борьбы Ночи с Днём отображает борьбу сознания, стремящегося к обретению себя в мире стоящих за сновидениями имагинаций. Чистота видения, которой требует высокое художественное чувство, предполагает удаление впечатлений прошедшего дня. Дневные впечатления, проскальзывающие в сновидца, надо стереть, как иконоборцы стирали с икон изображения святых и существ ангельского чина за их уподобление земным людям в Византии VIII века:
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья…
Ночь побеждает в борьбе с Днём, и сновидец приветствует её победу:
День выметен с позором…
Всё, что остаётся во сне от дня, сопоставимо с мусором и должно быть безжалостно выброшено. Душа освобождена для имагинативной активности, готовой прямо живописать реалии, с которыми там, в состоянии свободном от тела, имеет дело.
Между тем какая-то опасность затаилась и в Ночи. Ночь названа коршунницей. Образ этот – очевидная аллюзия на коршуна в греческом сказании о Прометее, хотя в качестве имагинации он мог возникнуть в поле сознания поэта-сновидца вполне самостоятельно. Коршун, терзающий в мифе печень титана, в трактовке Рудольфа Штейнера – имагинация астрального тела, представленного в физическом организме лёгкими [20. – GA 92. 7.10.1904. S.67]. Днём, – так было, по крайней мере в греческом мире, – астральное тело оказывает разрушительное воздействие на печень, орган жизненных сил, впрочем, по мифу, заново отрастающую за ночь. У Мандельштама же как будто регистрирован переворот, совершившийся в этом отношении в истёкшие века: Ночь хоть и питает творческие силы («грифель кормит»), но требует что-то и взамен, что-то отнимает. Поставленный между Ночью и Днём поэт-сновидец в IV строфе чувствует себя в затруднительном положении.
Впрочем, по выходе из ночной борьбы и имагинации оказываются ненужными. Воля поэта добивается более высокого и готова
…как птенца стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья.
Восприятия, – условно говоря, – окружающего мира в чистых («прозрачных») имагинациях, достигнутого в ходе борьбы Ночи с Днём, недостаточно. Сновидец поднялся к более высокой способности восприятия – не «зрительной», а «слуховой», что предполагает подавление имагинаций. Этим моментом отмечен переход сна во вторую стадию.
Теперь пробуждённое сознание спящего погружается в картины и звучания царств природы, которые человек днём обыкновенно воспринимает извне. Они становятся доступными преимущественно его духовному слуху изнутри.
Строфа V. –Во второй стадии сна спящий обретается всё ещё в околоземном пространстве, но воспринимает его как бы с изнанки.. «Придя в такое состояние сна, человек уже не находится в чувственном мире. Он входит в душевный мир, и в этом душевном мире он переживает истину о чувственном мире» [21. – GA 94. 19.02.1906. S. 195]. Он обнаруживает действительность, хорошо знакомую ему в дневном мире, с неизвестной в чувственном мире стороны. V строфа показывает его окунувшимся в процессы вегетации в растительном царстве:
Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует…
Сновидец очевидным образом чувствует себя перенесённым в залитый солнечным светом мир , хотя в предыдущей строфе день был как будто изгнан из области восприятий. Ремарка «как день бушует» показывает, что процессы, в которые спящий погружён, протекают совершенно так же, как обычно днём, но ремарка эта, – она принадлежит автору, не сновидцу, – необходима, так как в своём бушевании вещи видятся с другой стороны. Инспиративное сознание второй стадии сна, роднящее сновидца с инспиративным сознанием растительного царства, то есть групповых душ растений, проникает внутрь совершающихся в растениях процессов, тогда как в обычном сознании он имеет дело с ними с внешней стороны. Теперь он знакомится с процессами роста, цветения, созревания плодов опытно с той степенью интенсивности, что вместо форм ощущает распирающие их силы.
Поэт рефлектирует над переживаемым, отдавая себе отчёт в том, что всё это
Изнанка образов зелёных…
Он понимает, что зелёный растительный мир предстал пред ним с оборотной – внутренней – своей стороны.
Отрывочность строк и образов V строфы нарастает, отражая стремительность смены впечатлений спящего, но в ещё большей мере – специфику инспиративного сознания, элементов видения/имагинации не исключающего. Оно, по Штейнеру, «живёт в образе, затем опять подавляет образ, опять живёт в образе, подавляет образ. Это состояние инспиративного переживания мира. Но тогда переживают мир, который и так лежит не слишком уж далеко от человека. Он переживает его во сне каждую ночь». [22. – GA 211. 21.03.1922. S.15] Прерывистость набегающих образов – отличительная особенность второй стадии сна. Звучания духовного рода (у Мандельштама «бушевание») «подавляют» продолжающие возникать образы, разделяют их и т.д.
Пёстрые картины несутся перед очами души, пока «на изумлённой крутизне» спящий не начинает пробуждаться для более высокой действительности в третьей стадии сна.
Строфа VI. – Здесь драматизм переживаний ночного странника достигает наивысшей степени. Нарушенный синтаксис отражает смятение души:
И как паук ползёт по мне –
Где каждый стык луной обрызган.
На изумлённой крутизне
Я слышу грифельные визги.
Замешательство, быть может, даже прерывает течение сна:
Ломаю сон, горящий мел
Для твёрдой записи мгновенной, –
– будто увиденное надо, на мгновение очнувшись, закрепить на бумаге. Эти строки отмечены беспокойным поиском равновесия – трудно удержаться на крутизне.
В предыдущих строфах говорить о субъекте оды – так называемом «лирическом герое» – в привычном смысле было нельзя. Он нигде не выступал на передний план, хотя и заставляет предполагать своё присутствие в качестве повествователя. Поглощённый созерцаемым-переживаемым он до сих пор не успевал оглянуться на самого себя. Надо было оказаться на большой высоте, чтобы, измерив её взглядом, продвинуться к проблеску чувства Я. Здесь речь начинает вестись от первого лица: «паук ползёт по мне», «я слышу».
Строфа VI – сгусток наиболее загадочных сновидчески-имагинативных и инспиративно-слышимых, различимых на слух образов, за которыми таятся реалии ночных переживаний самого высокого уровня.
«Стык» – знакомая нам по первой строфе метафора созвездия. Это сигнал: в неконтролируемом своём подъёме ввысь сновидец достиг неба неподвижных звёзд, оккультно – «взошёл на Зодиак». Созвездия, «обрызганные луной», видятся вблизи, на них лежит свет оставленной, в сущности, далеко внизу Луны. Какую силу имеет здесь, так высоко Луна?
Спящий пробегает в течение ночи весь тот путь, который он же будет– гораздо дольше и, по Штейнеру, при полном сознании, – проходить после смерти («сон – брат смерти»). Но спящий не производит расчёта с земной жизнью, и потому он не может идти так далеко, «за пределы Зодиака», как душа идёт после смерти, прежде чем пуститься в обратный путь к новой жизни на земле. Спящего за пределы неба неподвижных звёзд не пускает та сила, которая во время его странствия в пространствах ночи как бы следовала за ним по пятам. Эта сила – Луна.
«Ночью лунный элемент до некоторой степени окрашивает – даже в новолуние – весь Космос особой субстанцией, которую человек тоже переживает. Но он переживает его так, что эти лунные силы удерживают его в пределах зодиакального мира и возвращают опять к пробуждению» (23. – GA 214. 30.08.1922.S. 182 ). – Ночное наше светило имеет все права на спящего, пока тот остаётся земным человеком. Выход за пределы зодиакального круга для него был бы преждевременным, и в момент, когда он, быть может, хотел бы уже выйти за эти пределы, Луна его останавливает. Луна призывает его вернуться к своим обязанностям перед Землёй, её обитателями и самим собой.
Нельзя решить, по какой причине образ паука возникает в оде в контексте переживания «крутизны». У автора были на то, безусловно, важные основания. Самый же образ паука, который авторское Я воспринимает как данность («ползёт по мне»), без выраженного отвращения и желания сбросить паука с себя, в контексте духовной науки вполне прозрачен, хотя значительная доля непредвзятости требуется, чтобы вникнуть в предлагаемое объяснение странного этого феномена.
Рудольф Штейнер во многих своих лекциях давал описание целых отрядов незримо окружающих человека существ, именуемых элементарными духами. Одну из их разновидностей можно видеть сопутствующей людям, склонным к восприятию прекрасного. Незамечаемые, такие духи присутствуют при людях в качестве антиподов возвышенных устремлений и чувств. Их близость подсознательно вызывает в человеке сильное отталкивание от них и тем самым – утверждение в том, к чему он особенно склонен. «Эти существа, которых я теперь имею в виду, – так начинает Рудольф Штейнер описание данной группы элементарных духов, – имеют дело главным образом с миром видимости, прекрасной видимости. Они меньше принадлежат умным людям, чем художественным натурам…Их можно найти там, где находятся настоящие произведения искусства…Этих существ легко обнаружить, слушая кого-либо, кто говорит достаточно красиво и чью речь хорошенько не понимаешь. Когда слышишь только звуки, не понимая их значения… Обнаруживаешь этих существ, которые всюду там, где есть прекрасное, и оказывают ему поддержку, так что человек может питать искренний интерес к красоте. А затем следует большое разочарование, следует великое, ужасное удивление. Эти существа безобразны, они самое безобразное, что только можно встретить. И если приобрёл духовное видение этих существ и, обладая этим видением, посещаешь какое-либо ателье, где создаются произведения искусства, тогда видишь, что это те существа, которые подобно паукам (!) находятся на почве мирового бытия на земле, чтобы человек имел интерес к красоте. Это жуткие паукообразные существа элементарного рода, благодаря которым как раз пробуждается интерес к прекрасному. Человек не мог бы питать настоящий интерес к красоте, если бы он не был своей душой вовлечён в мир безобразных паукообразных существ.
Идя по галерее, люди не подозревают,.. что интерес к прекрасным картинам поддерживается тем, что в уши и ноздри вползают и из них выползают безобразнейшие пауки. Восхищение человека прекрасным возникает на основе безобразия. Это мировая тайна. Требуется, я бы сказал, подстрекательство со стороны безобразного, чтобы явилось прекрасное. И великие художественные натуры были так устроены, что могли благодаря их крепкой телесности выносить пронизанность этими пауками, чтобы создавать Сикстинскую мадонну или подобные произведения. Всё, что производится в мире прекрасного, целиком вызывается тем, что энтузиазм поднимает человеческую душу из моря безобразного» (24. – GA 219. 16.12.1922. S. 80-81).
Сколь невероятной не показалась бы читателю, не подготовленному к текстам, подобным приведённому, картина расползающихся по художнику паукообразных существ элементарной природы, сам Мандельштам, прочитав приведённые строки, подтвердил бы её абсолютную верность. Если в «Грифельной оде» он ограничился строкой «и как паук ползёт по мне», то вот в короткой заметке о В.Б.Шкловском, восхищённый искрометными высказываниями писателя, он видит на портретируемом им Шкловском не иначе, как тех существ, которых в приведённой выдержке из лекции описал Рудольф Штейнер. «Толпа окружает его и слушает, как фонтан. Мысль бьёт изо рта, из ноздрей, из ушей…Всё переменится: на площади вырастут новые здания, но струя будет всё так же прядать – изо рта, из ноздрей, из ушей» [24а. – Осип Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем. Том 2. М., 2010. С.468]. Картина, конечно, несколько ослабленная по сравнению с нарисованной Штейнером. Мандельштам «пауков» по понятным причинам в заметке прямо назвать воздержался, но что иное видел он у Шкловского выползающим «изо рта, из ноздрей, из ушей»?!
Вблизи «Звериного круга» духовный слух спящего улавливает звуки, напоминающие скрежет грифеля, проведённого по поверхности доски, – «грифельные визги». В ночном мире животное царство также представляется с «обратной» своей стороны. Там воспринимаются не отдельные особи, а общие для каждого из видов – групповые в терминологии духовной науки – души. (Впечатления этого уровня в описании Рудольфа Штейнера, конечно, коррелируют с впечатлениями, которые человек имеет, наблюдая поведение животных на земле.) «…он переживает элементарных существ, принадлежащих животному царству и имеющих наряду с совершенно гармоничными движениями, в которых они восходят вверх и нисходят вниз, то есть наряду с этими вертикальными движениями, также горизонтальные движения. В этих горизонтальных движениях, которые производятся групповыми душами животных,.. проявляются устрашающие прообразы дисгармоничных, несогласных сил животного царства. Там происходят ужасные, яростные схватки» [25. – GA 216. 16.09.1922. S.16]. Кажется, что из впечатлений, полученных в этой сфере, Мандельштам извлёк две строки, проставленные в эпиграфе к оде:
Мы только с голоса поймём,
Что там царапалось, боролось.
(Слуховые галлюцинации, которым, по свидетельству Н.М., Мандельштам был подвержен в 1934 году, были, смеем сказать, «издержками» достигнутой им в художественной области способности инспиративного восприятия).
Строфа VII. – Возглас «Кто я?» открывает собой строфу VII:
Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик…
Здесь вершина оды. Как человек, силящийся по пробуждении понять, где он находится и через это вернуться к сознанию самого себя, сновидец – пробудившийся в более высоком мире и в более высоком качестве – начинает поиск себя. Ощущения себя, уже проснувшегося, недостаточно. Он нуждается в самоопределении. «Кто я?» Готового ответа нет. На насущный этот вопрос, теперь возникший, сновидец-поэт ищет ответ, перебирая подходящие к его случаю, как ему кажется, почти напрашивающиеся роды занятий, которые он, применив к себе, сразу же и отбрасывает:
…Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик…
Ни в том, ни в другом, ни в третьем удовлетворительного ответа нет, хотя он явственно близок. Перечень этот мог бы быть и продолжен, но он всё же не столь произволен, как может показаться. Семикратно звучащее в двух этих строках к являет слуху усилие, которого требует от людей ручного труда преодоление упорствующего материала.
Двурушник я!
Это находка! Слово, выхваченное из политического лексикона эпохи, явственно освобождено от значения, в котором оно использовалось. Оно взято в своём корневом, выисканном Мандельштамом значении человека о двух руках!
Смысл этот, собственно, просвечивал уже в поиске профессий, которые
пробудившееся на верхушке сна Я примеряло к себе. Двурушник – как определение человека вообще это, пожалуй, лучше осмеянного Диогеном платоновского определения человека как существа о двух ногах без перьев [26. – Ср.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Кн. VI, 2,4. Пер. М.Л.Гаспарова. Изд.2. М.,1986. С.226]. В найденном этом определении таится, однако, и на сей раз куда более глубокий смысл, чем тот, что лежит на поверхности. Он раскрывается в свете одного замечания Рудольфа Штейнера, которое следует привести в данной связи. Представление Я, говорит он, «мы развиваем благодаря тому, что можем правой рукой коснуться левой руки» [27. – GA 214. 22.08. 1920. S.150].
Чувство Я, уже пробудившееся, как явствует из содержания VII строфы оды, поэт возвёл к ощущению двух рук, встреча которых, как, впрочем, и всякое другое ощущение, возникающее благодаря пересечению двух осей, исходящих, например, из двух глаз, даёт основание самосознания.
(Тут, собственно, в поле зрения сновидца мог бы возникнуть и пропущенный при начале оды элемент огня. Однако надобности в этом, по сути, нет: восприятие Я – «более высокого Я» в терминологии Штейнера – тождественно восприятию огненной стихии).
Коллизия Ночь – День, казалось, разрешившаяся в четвёртой строфе в пользу Ночи, по-настоящему разрешается на достигнутой поэтом-сновидцем высоте. – Противопоставление Ночи Дню имеет давнюю традицию в европейской поэзии, восходящую к немецким романтикам, в особенности к Фридриху фон Гарденбергу, писавшему под псевдонимом Новалис (1772-1801). Его «Гимны к Ночи» славили Ночь в противоположность прозаическому и бедному содержанием Дню. У этой оппозиции имеются ещё более глубокие корни, чем в ней самой выражено: таинства Ночи в древние времена совершались во мраке святилищ. Иудейские пророки получали откровения Яхве, божества Ночи, во сне. [28. – GA 187. 22.12. 1918. S.18-19] Понятно, что взгляд романтиков искал всякое таинственное в прошлом, в исторических эпохах, более или менее отдалённых, подёрнутых сумраком. Мандельштам в XX веке находился в ином положении, нежели Новалис, на подступах к XIX веку искавший – и ещё находивший! – пристанище в Ночи.
Эпоха, последовавшая за мировой войной и революцией в России, резко диссонировала с настроениями, подобными тем, которые владели романтиками. Борьба акмеистов, самого Мандельштама в особенности, с символизмом, коренившемся, – что отмечено в литературе, – в романтизме рубежа XVIII –XIX веков, – как будто должна была отвратить его от романтиков. Дело обстояло, по-видимому, сложнее. В рецензии на стихи одного начинающего автора (в статье «Армия поэтов», 1923) Мандельштам рекомендовал ему обратить внимание на стихи Новалиса как на великолепный образец, которому надо было бы следовать.
В «Грифельной оде, как и в остальном творческом наследии Мандельштама, нет признаков, что драматическая коллизия Ночи – Дня представляет аллюзию на новалисовы «Гимны к Ночи»». Мандельштам будто начинает там, где остановился Новалис. Если он и возрождает противопоставление одной мировой силы другой, то делает это с гораздо большей экспрессией, чем Новалис, вообще избегавший резких контрастов и жестов. Основная тема последнего получает у Мандельштама поистине драматическое развитие, но зато и полное разрешение. *
* Тема «Мандельштам и Новалис» требовала бы дальнейшего углубления. Здесь отметим моменты совпадения некоторых мотивов «Грифельной оды» с высказываниями Новалиса. Так, в одном из своих «Фрагментов» Новалис даёт своеобразный перечень стихий: «Лучшее, что есть в науках, это их философский ингредиент, как в органических телах – жизнь. Изымите из наук их философскую часть, что останется? Земля, воздух, вода». [Немецкая романтическая повесть. Том I. Комментарии. М.-Л. 1935.С.444] Огонь в данном фрагменте, как и у Мандельштама в «Грифельной оде», не назван. Новалис видит только элементы, иерархически располагающиеся ниже. Среди них в «Учениках в Саисе» «первенствует влага»: «… поэты, – ишет автор комментария Н.Я Берковский, – эти посвящённые в природу, по Новалису, должны ухаживать за «мировой влагой; люди призваны чтить реки и источники своих селений» [444]. – Следующее замечание Н.Я.Берковского, сделанное в связи с «Учениками в Саисе», может служить комментарием к строфе VII «Грифельной оды»: «К пониманию природы он считал предрасположенными ремесленников, крестьян, рудокопов, корабельщиков, потому что природа для них – предмет чувственного обыкновения» [443]. Видеть в соответствующих местах «Грифельной оды» аллюзии Мандельштама на Новалиса было бы, с нашей точки зрения, всё же совершенно бесплодным.
Мандельштам, собственно, отказывается от предпочтения одного другому, выбора в пользу Ночи, который так определённо делал Новалис, либо в пользу Дня (как Тютчев, которому была «ночь страшна»*). Драматическую коллизию Ночь – День он разрешает формулой с участием поставленного посредине между ними Я:
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Мандельштам не уходит от выбора, но заменяет проблему выбора установлением равновесия между двумя полярными силами, среди которых человек находится теперь, в XX веке.
* См. стихотворение Ф.И.Тютчева «Ночь и день».
Дневная цивилизация прокладывала себе путь под грохот пушечных залпов мировой войны и хаос революций, что даже чутким современникам затрудняло различение в потоке нахлынувших событий действительно нарождающееся новое от наносного, ослеплявшего и оглушавшего человека мнимой своей новизной. Сложный комплекс этих чувств наложил свой отпечаток и на Мандельштама. Новизна избранной им позиции в отношении борющихся в мире сил, – сил, борющихся за человека, – заключалась в том, что он, бесспорно, делал движение в сторону ясного света Дня, но при этом вовсе не оставлял Ночи. Он выделил между ними место посередине в точке равновесия и опоры, а это было его Я. Он хочет отсюда в равной мере и равным образом устанавливать свои отношения и с Ночью и с Днём. В этом моральный пафос «Грифельной оды».
Соединение в самом Мандельштаме двух начал, ночного и дневного давно разглядела его знакомая по Петербургу Ида Наппельбаум, впоследствии подытожившая свои впечатления: «…он состоял из двух профилей – солнечного [читаем: дневного. – Г.К.] и теневого [читаем: ночного. – Г.К.]. И оборачивался то одной, то другой стороной. В этом была его суть» [29. – Ида Наппельбаум. Угол отражения. СПб. 1999. С.71]. Он жил в начальный период своего творчества преимущественно ночной жизнью, но он не мог не начать врастать в День, чтобы не выпасть из своей эпохи.
Он объявляет:
…я дня застрельщик.
Слово «застрельщик» в «Грифельной оде» такой же прозаизм, как и «двурушник», но в начале 20-х годов оно ещё не успело приобрести значения «передовика производства», в котором использовалось позже. Оно встречается в «Записках» декабриста И.Д. Якушкина, посчитавшего нужным пояснить значение непривычного в тогдашнем дворянском обиходе слова: «В этом деле [в осуждении крепостного права. – Г.К.] мы решительно были застрельщиками или, как говорят французы, пропалыми ребятами (enfents perdus)» [30. – И.Д. Якушкин. Записки декабриста. 1951. С.19]. В глазах Якушкина слово «застрельщик» определённо заключало в себе момент жертвенности: солдат, первым открывающий стрельбу и своим примером увлекающий за собой остальных, идёт, быть может, на верную смерть (оттого он «пропалый», пропащий). Мандельштам, чуткий на смысловые обертоны общеупотребительных слов, мог улавливать и в слове «застрельщик» этот дополнительный к основному смысл. Он во всяком случае видел себя впереди современников, и не потому только, что первым, когда все ещё спят (тонут в Ночи), встречает после ночной работы день, но потому, что начинает День, будучи обогащён тайнами Ночи. Он тот, кто идёт впереди всех навстречу занимающемуся Дню. Быть может он также и тот, кто свет Дня вносит в таинственный мрак Ночи*.
* В антропософии тема смены эпох на рубеже XIX – XX веков представлена в связи с учением об эпохах архангельского правления миром, вынесенного из глубин эзотерики в открытый мир аббатом Тритемием Шпонгеймским ещё в XV веке, но обновлённом и конкретизированном в духовной науке Рудольфом Штейнером. Согласно Штейнеру, бразды правления духовным развитием человечества взял в свои руки в 1879 году архангел Михаил. Ему своим рождением на рубеже эпох обязана сама духовная наука, которую он подготавливал в предшествовавшие столетия, пока законным мироправителем был его собрат из архангельской чреды Гавриил.
Михаил, связанный с земными судьбами человечества особенно тесно, и сам прошёл развитие своего рода. Прежде бывший Ликом ночного божества Яхве, он после Голгофы занимает это же место при Христе и соответственно обстоятельствам Мистерии Голгофы, совершившейся при свете дня, совершенно открыто, сам становится вдохновителем дневной культуры. «Из Духа Ночи Михаил должен стать Духом Дня. Мистерия Голгофы означает для него превращение из Духа Ночи в Духа дня» [22.11. 1919 GA 194 S.38]. В этом качестве Михаил получил возможность действовать в земном человечестве лишь с начала отведённого ему Мировым Промыслом периода правления (1879 – ок. 2350г.) Он действует отныне, инспирируя дневную и, как это было свойственно эпохам его мироправления и прежде, космополитическую, то есть общечеловеческую культуру. Он вносит в духовную жизнь людей импульсы к развитию общечеловеческих интересов и постановке общечеловеческих целей. Им по мере их усиления растёт сопротивление со стороны сил прошлого, но также сил, столь же враждебных, которые хотели бы захватить ростки будущего и направить в ложную сторону. Большевистская революция была, пожалуй, первым мощным натиском на инспирируемую Михаилом свободную духовную жизнь, при чём большевизм противопоставлял ей свой приземлённый интернационализм. Отсюда должно быть понятно, что такие современники тех событий, как, скажем, Пастернак, Мандельштам (объявивший акмеизм «тоской по мировой культуре») могли быть, по крайней мере на первое время, сбитыми с толку интернационалистской фразеологией большевиков. Последние имели за собой тем больше силы, что как никто другой, развёртывали свои программные действия в области именно дневного строительства, в то время как все их противники, вынужденные уйти в эмиграцию внешнюю или внутреннюю, жили наследием культуры Ночи.
Достигнув вершины ночного своего странствия и вместе с тем обновив самосознание, сновидец пускается в обратный путь. Как и при начале оды, перед ним опять вырастает образ горы (что придаёт оде композиционное равновесие), но с существенным отступлением: вместо горных склонов, сбегающих сверху вниз в долину, теперь взгляд падает на подножие горы, на «подошву гор»:
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твёрдой почве!
Высказывание это надо понимать дословно: душа спускается «с неба на землю» и уже чувствует твёрдую почву, на которую ступает нога. Это значит, что она возвращается в тело со стороны, противоположной той, с которой вышла, – теперь через конечности. «Мы пробуждаемся, и оттого, что мы пробуждаемся, астральное тело и Я втекают в нас через кончики рук и ног» [31. – GA 236. 22.06.24. S. 260].
Жест склонения к «подошве гор» наводит на ассоциацию с восклицанием Иоанна Крестителя, объясняющего ученикам отношение, в котором он находится к Христу: «Я не достоин развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1:27). – На Востоке хозяева развязывали ремень у ног гостя, проделавшего дальний путь – в госте видели посланца Неба. В «Грифельной оде» сновидец, готовящийся вернуться в тело, делает жест противоположной направленности: ремень (отсылающий к образу «кожаных одежд», которыми Господь Бог одел Адама и жену его, образу кожных покровов человека. Быт.3:21) должен быть завязан у «подошвы», и – что подчёркивается! – это сопровождается чувством блаженства. Здесь «завязать ремень» означает ощутить себя в границах кожи. В свою очередь слово «блажен», дважды повторенное в VII строфе, отсылает к заповедям блаженства Нагорной проповеди Христа, произнесённой на горе. Пожалуй, тут образ горы совмещается с фигурой самого Христа (остающегося не названным), так как тело, в которое душа возвращается, освящается близостью к Нему, Мировому Я, в котором душа во сне заново себя обрела.
Душа возвращается в тело не по одной только природной своей склонности. Она даёт согласие на возвращение в тесные его границы свободно, и испытывает блаженство оттого, что возвращается в тело, чтобы быть полным человеком.
Строфа VIII. И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света…
Поэт отдыхает. Он может теперь отойти от пережитого и со стороны посмотреть на свои опыты – прочесть дневник того лета (лета 1922 года, очевидно), записать (и, наверное, отредактировать) отложившуюся в нём оду. Что это за дневник? Именно то, что сохраняет опыты человека вообще и недавно пройденные ночные опыты также, – это эфирное тело (прежде оно было скрыто под метафорой «реки времён», но на этот раз оно проступает в ином образе). Оно стоит перед внутренним оком поэта
С прослойкой тьмы, с прослойкой света…
Таким именно в одном из аспектов видится открывшемуся оку эфирное тело: «Как мы перерабатываем в себе воздух в качестве кислорода и превращаем его в углекислоту, так эфирное тело перерабатывает свет и пронизывает его темнотой…» [32. – GA 171. 2.10.16 S.208]. «…наше эфирное тело, которое иначе было бы совершенно прозрачным, [под некоторыми влияниями] становится будто непрозрачным; я бы сказал, становится как дымчатый топаз, который пронизан тёмными слоями, тогда как кварц совершенно прозрачен и чист» [33. – GA 153. 11.04.14 S.112].
Таков состав дневника пережитого за ночь.
Сдвоенный образ «подковы с перстнем» открывал оду (I строфа), и он же её заключает (конец VIII строфы). В отличие от кольца перстень снабжён камнем или печаткой с именем или эмблемой владельца, которые, будучи оттиснуты в воске, удостоверяют автора послания. Сочетание кольцеобразного перстня с подковой – очевидная метафора замкнутой и разомкнутой форм, будто наложенных друг на друга. Для Мандельштама-сновидца их привело в связь между собой видение парящих над оставленным телом ночью Я и астрального тела – Я в виде замкнутого кольца (Я сознаёт себя обособленным от своего окружения) и астрального тела, по природе своей открытого внешнему миру, в образе подковы. «Что происходит с человеком во сне в оккультном смысле? – говорит Штейнер, – Тогда в постели остаётся физическое и эфирное тело, а астральное тело выделяется вместе с Я и парит у несовершенного человека в форме кольца, позже в форме физического тела над этим последним» [34. – GA 94. 26.02.08. S.202]. Двойственность эта, заключённая в единстве, названа в Откровении Иоанна Богослова Ключом Давидовым, который «отворяет и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит» [3:7] Человек открывается миру или замыкается перед ним по своему выбору.
«Ученики воды проточной». – Восхождение души в ночном мире совершалось на фоне быстротекущего потока. Это, надо думать, и есть «река времён», если только начальная строка державинской оды послужила побуждением Мандельштаму к созданию своей оды. Метафора «реки времён» унаследована из весьма далёких времён, когда в состояниях, возникавших спонтанно или вызываемых искусственно, человеку открывалось собственное своё эфирное тело в виде водного потока, стремительно уходящего к моменту его рождения вспять. Рудольф Штейнер употреблял для обозначения эфирного тела также составное слово Zeitstrom, «река времён» буквально. Как хранитель впечатлений, полученных в текущей жизни, эфирное тело есть также тело памяти, и в этой связи должно быть понятно, что его динамика – обратная в сравнении с обычным, текущим линейно из прошлого в будущее временем. Во второй строфе оды – это ещё родник, который впоследствии обратится в стремительно несущийся поток, но уже тут внятно сказано, что он течёт вспять:
Обратно в крепь родник журчит…
Образы раннего детства мелькают в V строфе, после которой поток выходит в открытое мировое пространство (эфирное тело не столь замкнуто перед своим мировым окружением, как физическое тело в своих границах).
Собственно, в оде «река времён» как таковая нигде не названа. Течёт не она, а «вода проточная», образ в контексте оды более верный и значения «реки времён» уточняющий. «Река времён» ничему не учит. «Вода проточная» – не только обстоятельство места и действия. Она исполняет роль наставницы, она собирает учеников, как-то над ними работает, их учит. Таинственным образом вызревает в её учениках новое знание.
В цитированной выше заметке Мандельштама о Шкловском дан ключ к тому значению, которое в глазах автора имела «вода проточная»: «мысль, – говорит он там, – проточная вода». И это снова эфирное тело человека, ибо оно – «тело мыслей». Посредством него мыслятся подвижные, исполненные жизненных сил мысли (в отличие от мыслей физического тела/мозга, безжизненных, тенеподобных).
При отличающей Мандельштама открытости мировому творческому процессу можно представить себе, что во время работы над одой его взгляд углублялся до видения в своём роде парадигматической картины той практики водного крещения, которую в преддверии прихода Христа развернул на берегах Иордана Иоанн Креститель. Согласно объяснению, которое дал ей Рудольф Штейнер, Иоанн производил «крещение покаяния» посредством полного погружения выразившего желание креститься человека в воду, с некоторой задержкой, вызывавшей эффект утопания. В такие моменты, – они нередко возникают и при других обстоятельствах, – эфирное тело частично выделяется из физического, и человек объективно и без прикрас видит картину всего, что он уже успел совершить в жизни. Крещение в Иордане вызывало в человеке катарсис и страстное желание начать новую жизнь. В этом контексте «черновик», который созревает в учениках воды проточной, читается как полная «чёрных пятен» картина жизни, которую, как и обычный черновик, надо «перебелить» [34а. – Ср.: GA 141. 14.01.13. S.127].
Мандельштам если и пользовался впечатлениями, навеянными далёким прошлым, то, надо думать, безотчётно и потому, что они актуализировались для него, и в самом широком смысле – для эпохи (что на самом деле неразделимо), к которой всегда, а в случае Мандельштама с его профетическим зарядом – в особенности, обращена речь поэта. Поэт начинает с себя, но говорит о мире и миру. «Перемените ваш образ мыслей!» – призывал современников Иоанн, так как «Царствие Небесное приблизилось». Не сигнализировала ли интуиция Мандельштама о возобновлении в XX веке духовной ситуации двухтысячелетней давности?
«Ученичество миров», оставленное человеком в прошлом (строфа I) получило в оде замену в «учениках воды проточной». «Кремень», названный в строфе VII «учеником воды проточной», у Мандельштама метафора человека как такового (в статье «О природе слова», 1920 он настаивал: «человек твёрже всего остального в мире»).
Грифель.– Грифель, которым на чёрной аспидной доске рука Державина выводила последние в жизни строки, попал в оду Мандельштама по функциональному сходству с тем, что делается со спящим во сне. Свою оду Мандельштам грифелем не писал, в руке поэта грифель нигде не виден. Но чья рука выводит
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок?
Будто луч прожектора пишет на сгустившихся в облака душевных состояниях спящего.
Пространство ночных опытов пронизывают, по Штейнеру, лучи света, исходящие от спящего. В его астральном теле пробуждаются органы восприятия в ночном пространстве – «сердечное око», «солнечное око»: «…во мгновение, когда вы переходите в состояние сна, в это мгновение часть вашего астрального тела, которая во время бодрствования включена в сердце, становится действительно сердечным оком, оно видит то, что таким образом происходит». То же в следующей стадии сна происходит с частью астрального тела, которая в бодрственном состоянии включена в солнечное сплетение, и в третьей стадии – с частью астрального тела, связанной с нижней организацией человека. Однако «сердечное око», «солнечное око» – это органы восприятия. Воспринимаемое высвечивают им лучи, исходящие от остающегося внизу эфирного тела, когда Я и астральное тело пробуждёнными в них органами восприятия на него оглядываются [35. – GA 214. 30.08.22. S.176]. – Похоже, что лучи Мандельштам называет «горящим мелом», который он в критический момент сно-видения «ломает», чтобы, на миг пробудившись, твёрдым орудием письма произвести запись на бумаге.
Здесь нет необходимости далее во всех подробностях прослеживать содержание оды. Сновидчески-ясновидческие корни её очевидны. Другое дело вопрос: где во всей этой набросанной выше картине место собственно поэзии? На этот вопрос отвечать не легче, чем определять содержание «Грифельной оды», ибо он, собственно, выводит нас за рамки поставленной задачи. Собственно художественная ценность произведения искусства просто дана. Вопрос в восприятии: фиксирует ли оно поверхность, не углубляясь в смыслы (так поступает столь ненавидимый, как известно, Цветаевой эстет), или смотрит сквозь поверхность вглубь, откуда вновь возвращается на поверхность, чтобы оценить, как глубина, – в конце концов, содержание, – на неё было переведено. В сопряжении двух этих пластов – верхнего и нижнего, поверхности (формы) и глубины (содержания) – вся суть приобщения к художественному. В виду этого на возникший вопрос можно отвечать так: отложив в сторону вскрытый в оде её содержательный состав, о нём надо забыть, чтобы со временем к ней возвратиться и тогда, быть может, воспринять её другими глазами.
Но возникает ещё и вопрос иного порядка!
«Грифельная ода» – масштабный и всё же совершенно личный обзор странствий души современного человека в ночных мирах. В то же время он обнаруживает динамику, возвышающую происходящее до высокой общечеловеческой значимости. Произведение 30-летнего Мандельштама в своём роде – лирический эквивалент странствий Данте, к «Божественной комедии» которого Мандельштам неспроста испытывал сильнейшее притяжение, хотя его ода совершенно свободна от католически-теологизирующих аллюзий на произведение итальянского классика. Вопрос, который теперь напрашивается: осталась ли «Грифельная ода» единственным в своём роде продуктом в творчестве Мандельштама, или таинственные опыты питали и другие произведения поэта? Нас заставляет утвердительно отвечать на вторую часть так поставленного вопроса, прежде всего прочего, стихотворение, возникшее у Мандельштама одновременно с «Грифельной одой» или же вслед за ней (оно обыкновенно печатается в собраниях его сочинений сразу после оды), но с ней содержательно, как кажется, не связанное.
Стихотворение о насекомом
В литературе о творчестве Мандельштама не прошло незамеченным, сколь приковывали к себе внимание поэта столь незначительные обитатели воздушного круга Земли как насекомые. Объекты его обострённого интереса в этой области меняются, но сама тема не сходит с его страниц в течение многих лет: осы, выполняющие какую-то (полезную?) работу над осью земной планеты, в стихотворении 1937 года; устрашающие «переборы коленчатой тьмы» (1922), ассирийские крылья стрекоз (1922)… Неназванным только осталось похожее на насекомое существо в стихотворении, соседствующем с «Грифельной одой»:
Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось
И зажигательное стёклышко
На эмпиреях загорелось.
Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:
«Не забывай меня: казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя:
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини.
Нельзя определить, в каком смысле употреблено слово как, дважды в этом стихотворении открывающее строфу, – в сравнительном ли смысле («заноза мучилась» так, как…) или перед нами продолжение речи, начатой за чертой звучащего слова? Похоже, что и всплеск света (в первых двух строках воспроизведенный скорее фонетически), и солнечные пятна на потолке («на эмпиреях») и повисшее в воздухе в знойный летний день нытьё комаров – всё это жест отстранения, сделанный, чтобы расслышать обращённую к поэту мольбу какой-то метафизической «занозы»:
…дай мне имя, дай мне имя…
Просьба, с которой живое существо обращается к человеку, реально может иметь смысл, пожалуй, только в контексте библейского повествования о сотворении животного царства. Создатель первого человека предоставил ему, гласит Библия, право наделить именами творения, вызванные Его волей к жизни: «Господь Бог образовал на земле всех животных полевых и всех птиц небесных и привёл [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым…» (Быт. 2:19,20).
Соотнесение стихотворения Мандельштама с библейским текстом поначалу напрашивается, однако полного объяснения оно не даёт: мольба неизвестного существа об имени выводит ситуацию за пределы первых дней творения. В Библии Адам раздаёт имена, но он выполняет поручение Бога и никто не остаётся обойдённым, чтобы, чувствуя себя обделённым, просить об имени. Закон, которому страдающее от отсутствия имени существо призывает человека последовать, – это, очевидно, тот же самый закон, следуя которому Адам наделял именами создания божьи, но как показывает стихотворение, закон этот действителен и поныне, тогда как Адам, пожалуй, никого не должен был пропустить. Ведь «заноза» просит об имени, как будто от этого сейчас зависят её жизнь и смерть. Действие, вменённое человеку в обязанность Богом, остаётся востребованным и поныне.
Собственно, представление о раздаче имён земным тварям следовало бы освободить от тривиального значения – несомненно, она не заключалась в навешивании этикеток. Слово человека смысле должно восполнять бессловесных существ в каком-то смысле. В каком именно, – выясняется из комментария Рудольфа Штейнера к приведённому месту Библии.
В лекции, прочитанной в Копенгагене 24 мая 1912 г., Штейнер описывает, в какое отношение человек изначально был поставлен к групповым душам животных. Отношение это реализует человек, обладающий некоторым видением этих групповых душ: он «должен давать цель своим ви’дениям». «Он стоит перед животным, видит его групповую душу, говорит «волк», то есть создаёт понятие «волка», и когда он говорит «волк», в нём поднимается образ, относительно которого у не-ясновидящего нет душевной субстанции, но есть только абстрактное понятие. То, что живёт в душевной субстанции, соединяется с групповой душой и оплодотворяет её, когда человек произносит имя «волк». Если бы он не произносил имени, то животное царство вымерло бы как таковое. И то же самое можно сказать о растительном царстве… Тем самым во внутреннем мире человека заложена возможность дальнейшего развития животного и растительного царства». Но, – продолжает Штейнер, – «вернёмся к исходному пункту… Служебные Ангелы спросили Яхве, или Иегову, зачем он непременно хочет создать человека. Ангелы не могли этого понять. Тогда Иегова собрал животных и растения и спросил Ангелов, каковы имена этих существ. Они этого не знали. У них были иные задачи, нежели оплодотворение групповых душ. Человек же мог назвать эти имена. Яхве этим показывает, что человек ему нужен, иначе вымерло бы всё его творение. В человеке далее развивается то, что в творении достигло завершения и что должно быть воспламенено для того, чтобы развитие шло дальше. Поэтому человек должен был добавиться к творению, чтобы могли возникать выражающиеся в имени оплодотворяющие зачатки» [36. – GA 155. 24.05.12. S.50]. Стихотворение Мандельштама обнаруживает, что его автор был такой избранной индивидуальностью, в которой групповые души могли усмотреть возможность оплодотворения и продления их жизни благодаря произнесению их имен.
Тайный путь
Приметы предстоящего жизненного пути стали ясны Мандельштаму рано. В 1910 году, прикованный к постели, 19-летний поэт написал четверостишие с изображением предвидимого пути:
Душный сумрак кроет ложе,
Напряжённо дышит грудь…
Может мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.
Была ли эта декларация будущего пути поэтической – и, значит, безответственной – вольностью начинающего поэта, или то было мгновение озарения, и вправду осветившего ему предстоящую жизнь? Четверостишие не содержит программы на будущее. Путь назван тайным, и, быть может, оставался таковым и для самого поэта и впоследствии в том смысле, что был понятен скорее только по чувству? Похоже, что путь представлялся уединённый, постороннему глазу невидимый, путь, на котором человек всегда пребывает наедине с самим собой в самом главном. Зная биографию Мандельштама, где главное тщательно спрятано даже от близких, можно думать, что именно этот смысл читался ему прежде всего в тайне смутно рисовавшегося ему ещё пути.
Но «тонкий крест»! Такой крест – тонкий и высокий, латинский! – в европейской живописи часто служит опорой Иоанну Крестителю. Даже отвлекаясь от известного нам сейчас конца жизненного пути Мандельштама, нельзя в символе тонкого креста из этих ранних стихов не усмотреть осеняющего предстоящий поэту путь знака.
Мандельштам не был человеком Пути в полном значении этого понятия. Он не мог бы подчинить свою жизнь правилам. Как поэт он нуждался в поддержании некоторого хаоса во внутреннем своём мире, вольного выражения мыслей и настроений с тем, чтобы строгая дисциплина художественной интуиции сама создавала на месте хаоса порядок. Он следовал в жизни некоторым врождённым принципам и вместе с тем пути, свободно развёртывающемуся перед ним. Уверенный, что путь ведёт его правильно, он не боялся отступления от него, всецело ему доверяясь.
Редко кто из современников, писавших о Мандельштаме, находил слова, чтобы изобразить его изнутри. Взгляд стороннего наблюдателя большей частью скользит по поверхности, а внешние проявления Мандельштама вообще отвлекали от заглядывания во внутренний его мир. Он жил в представлении современников как существо необыкновенно лёгкое и подвижное, со вскинутой головой, вдохновленное чтением своих стихов – читал он их вслух при всяком удобном случае везде. Извне воспринимала его и Н.М. ещё спустя годы, после того как они соединились, но с близкого расстояния она видела его тогда иначе, чем современники. «В Москве на Тверском бульваре со мной жил замкнутый и суровый человек первой половины двадцатых годов, когда он искал своё место в мире. В то время он обращался со мной как с добычей…И в свою жизнь он меня тогда не пускал. И я могла только догадываться, о чём он думает». [37. –Н.М. Воспоминания. М., 2006. С.191]
Порывистый, постоянно срывающийся с места, пока оно не успело им овладеть, скиталец Мандельштам тем не менее «искал своё место в мире». Его нельзя было найти в какой-либо точке на географической карте, хотя география южных скитаний Мандельштама, в которые он в 1921 году вовлёк и обретённую им в это время спутницу жизни, необычайна даже по временам тогдашнего интеллигентского кочевья. Место в жизни каким-то таинственным образом должно было совпадать для него с тем, что он бережно нёс в себе как драгоценный сосуд, содержимое которого не хотел расплескать.
О времени, когда Мандельштамы осели в Москве, Н.М. вспоминала, выделяя его в биографии Мандельштама особо: «Двадцатые годы, может, самое трудное время в жизни О.М. Никогда, ни раньше, ни впоследствии, хотя жизнь потом стала гораздо страшнее, О.М. с такой горечью не говорил о своём положении в мире» [38. – Там же. С. 199]
Под знаком объяснения с миром, но также и с сами собой проходят для Мандельштама 20-тые годы. Десятилетие это, начатое исполнением 30-го года жизни поэта, стало временем глубочайшего творческого и жизненного кризиса, развивавшегося одновременно изнутри и вовне.
Пожалуй, предзнаменованием творческого спада были уже статьи 1921-1922 годов, в которых поэт отошёл от обычной ему отдачи стихотворным ритмам, чтобы дать форму слагавшимся в нём, – разбуженным событиями военных и революционных лет, – мыслям на важнейшие темы творчества и культуры. В статьях двух этих лет, как и в последующей прозе, он оставался самим собой. Сжатые, пульсирующие мыслью, они шли как будто из того же источника, что и стихи, но – в обход стихов. Считающиеся программными, они были в то же время итоговыми в завершавшемся периоде творческого подъёма (характерна в этом отношении затухающая интонация «Нашедшего подкову»). Убыль стихов, заметная с этого времени, перешла в полное их отсутствие с 1925 года.
Творческий кризис 20-х годов примечательным образом наложился на кризис в отношениях Мандельштама с официальном литературным миром, и, значит, с властью. Обстоятельства будто нарочно толкали Мандельштама к переходу на позиции «круговой обороны». Раньше неприятности всякого рода, сыпавшиеся на него, по-видимому, не оставляли глубокого следа у него в душе. Теперь было иначе.
Первые признаки кризиса обозначились уже в 1923 году.
«В 22 году, когда мы вернулись из Грузии, все журналы поместили имя О.М. в списке сотрудников, но напечатать стихи становилось всё труднее…
В 23 году О.М. сняли сразу из всех списков сотрудников. Это не могло быть случайностью, иначе не было бы такой согласованности во всей периодике». [39. – Н.М. Воспоминания. 2006. С. 162]
С этого года Мандельштам переходит на автобиографическую прозу. Вынужденный ради заработка брать переводы, поэт находит в обращении к прозе средство поддержания творческой своей активности. Тогда (в августе 1923 года в Крыму) Мандельштам приступил к воспоминаниям о своих детских и юношеских годах, – впечатлениях и встречах начала века. Выросший отсюда «Шум времени» мало похож на мемуарную прозу. В отличие от мемуаристов, обычно на исходе дней перебирающих подробности дорогого прошлого, «Шум времени» писал человек, только приближавшийся к дантовой середине жизни, – в 1923 году Мандельштаму исполнилось 32 года. Обратиться к обзору собственной жизни в довоенное время Мандельштама, похоже, побудило среди прочего желание отодвинуться от неприятностей, связанных с жизнью в Москве, его теперь глубоко задевавших. Быть может потому Мандельштамы и уехали на время из Москвы в Крым.
«О.М., – пишет Н.М., – был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно» [41. – Н.М. Воспоминания. М., 2006. С.86]. Со стороны он воспринимался, конечно, иначе – как неуживчивый, трудный в общежитии, даже скандальный человек. Он мгновенно реагировал на всякие проявления несправедливости, когда с ними встречался, вступался за обижаемых, но и себя, тем более свою спутницу жизни, в обиду не давал. Чем дальше шло время, тем отчётливее в его поведении и высказываниях проступал протест против мертвящего дыхания самой власти, от которого стыла жизнь и замирала мысль. Люди благоразумные считали за лучшее держаться от него подальше. Зимой 1923/24 гг. во взаимоотношениях Мандельштамов с их литературным окружением определилась новая эта фаза. «Мы впервые узнали вкус не добровольной, а настоящей изоляции: ни один современник не заглянул к нам на Якиманку». [42.– Н.М. Вторая книга. М.. 2001. С. 148]. Вероятно, это обстоятельство сыграло свою роль в решении Мандельштамов уехать из Москвы в Ленинград, где, – чаще даже в Детском Селе, чем в самом городе, – они прожили до осени 1929 года.
В советском обществе Мандельштам оказался в положение изгоя, так как не умел понимать правил молчаливо принятой в интеллигентской среде игры в лояльность к устанавливавшемуся порядку вещей, но возникшую вокруг него «полосу отчуждения» воспринимал болезненно. Своей эпохе он хотел принадлежать, но под условием полной личной автономии. Знаменитые строки, написанные в 1931 году, когда ему казалось, что статус современного писателя ему удалось восстановить, –
Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея.
Смотрите, как на мне топорщится пиджак…
позволяют понять, что он и тогда чувствовал себя в своей эпохе, как в пиджаке, не слишком хорошо пригнанном к человеку, но всё-таки за неимением лучшего надетом.
В очерке о Комиссаржевской в составе «Шума времени» Мандельштам будто принимал обязательство перед самим собой: «Мне хочется говорить не о себе… Память моя враждебна всему личному», и – существенное в Мандельштаме: «…память моя .. работает … не над воспроизведением, а над отстранением [курсив мой. – Г.К.] прошлого». Слова эти могли бы служить эпиграфом ко всему творчеству Мандельштама-поэта – его пронизывает стремление к некой объективной, не легко дающейся реальности, через отстранение самого себя, насколько в лирике это возможно. Однако в следующей своей прозе, в «Египетской марке», он производит тем не менее впечатление обрушения в бездну субъективности. Мы не знаем в точности, что было пережито Мандельштамом в промежутке между двумя книгами, в 1924 – 1927 годах, но «Египетскую марку» писал, если и тот же человек, из под пера которого вышел «Шум времени», то делал он это теперь, будто спасаясь от какой-то постигшей его катастрофы. Н.М. прямо усмотрела в «Египетской марке» попытку «перенесения в десятые годы той сумятицы, которая охватила Мандельштама в двадцатых, а это признак растерянности и потери критериев» [43. – Н.М. Вторая книга. М., 2001. С.137]
В литературе отмечено, что повесть, собственно, лишена фабулы. Автор воспроизводит, видимо, припомнившуюся ему историю с пропажей пары рубашек в пору своей молодости в Петербурге, но разворачивает его до события, вобравшего в себя весь трагизм колеблющегося под ногами героя мироздания. Повествование нанизано на этот короткий сюжет главным образом для того, чтобы вывести на страницы повести героя, чувствующего себя в своих метаниях по городу несчастным и несвободным, и, как сам автор вдруг догадывается, подозрительно на него самого похожего. Когда это ему становится ясно, в повествование врывается вопль: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него!» То не был литературный приём. То был приём замещения себя своим героем в целях дистанцирования от чего-то в себе, что сделалось тогда – в 1927 – 1928 гг., когда почва, видимо, ушла из-под ног, как пропали когда-то его рубашки! –настоятельно необходимым.
«Четвёртую прозу» (1929 г.) Мандельштаму диктовало уже ощущение вселенской катастрофы, в центре которой находился он сам. Автор чувствует, что против него ополчился весь мир, и он даёт ответ сыплющимся на него ударам всем сразу. Так пытается он отстоять себя. Судя по « Четвёртой прозе» катастрофа стала фактором жизнеощущения поэта.
Благотворная для Мандельштама во всех отношениях перемена наступила в 1930 году. Её начало отмечено встречей с Б.С.Кузиным в Ереване. Об этом событии не следует говорить мимоходом.
Встреча Мандельштамов с энтомологом Кузиным почему-то не произошла в Москве, где им было естественнее всего встретиться, если они по судьбе в этой встрече нуждались.
Кузин охотился в Армении за кошенилью – популяцией насекомых, содержащих редкий краситель, в котором нуждалась текстильная промышленность СССР. Нигде в СССР, кроме Армении, кошениль не была известна, и перед Кузиным стояла задача определить возможности её разведения в необходимых промышленных масштабах. – В древности (и ещё в Средние века) аналогичный краситель, пурпур добывали из раковин морских моллюсков, вылавливаемых у берегов Финикии, в приморском Сидоне. Благородный кармин, краска, изготавливаемая из моллюска, украшала фрески мастеров итальянского Ренессанса. В особенности ею пользовался Рафаэль, живопись которого немыслима без спокойного согревающего кармина.
Кузин находился в Армении в служебной командировке. Зачем Мандельштамы летом 1930 года отправились туда, по тем временам на край света, из прозы Мандельштама и записок Н.Я. не вполне очевидно. Оставив Москву далеко позади, они будто удалились в пустыню. Стремительное сближение с Кузиным в Ереване навело их даже на мысль, – оставшуюся, понятно, неисполненной, – ни в коем случае не возвращаться в Москву. «Возможно только одно: остаться здесь…Возвращение в Москву исключено абсолютно», – вспоминал о духе этой встречи Б.Кузин [44. – Б.С. Кузин. Об О.Э. Мандельштаме. // Вестник Русского христианского движения. Вып.140. III-IV. Париж –_Нью-Йрк – Москва. 1983. С.113]. Ландшафт Южного Кавказа, над которым будто ещё реет дух ветхозаветной древности, вероятно, тут сыграл роль посредника, без которого нельзя было бы обойтись.
Известно, что именно встреча с Кузиным в Ереване разбудила творческие силы Мандельштама. К нему вернулись стихи.
Я дружбой был как выстрелом разбужен…
– строка эта из написанного два года спустя стихотворения «К немецкой речи» (1932 г.), посвящённом Кузину, даёт понятие о некоторых глубинных процессах, которые пришли в движение от встречи людей, тесно связанных судьбой между собой. Оставшееся без объяснения указание в заглавии стихотворения на немецкую речь в связи с новым другом – след, должно быть, давней принадлежности людей друг другу, которая мгновенно сказалась при их встрече, житейскими отношениями не отягощённой, – след той эпохи, когда нашедшие друг друга теперь вновь люди говорили, должно быть, на немецком языке. . В Ереване в душе каждого из её участников обнажился более глубокий слой, а оттуда в Мандельштаме вновь забил родник творчества и стихи к нему вернулись. «С возвращением к стихам Мандельштам вернул себе чувство личной значимости. Зимой 1932-1933 года прошло несколько его авторских вечеров, «старая интеллигенция» его сверстников принимала его с почётом.» [45. – М.Л. Гаспаров. Поэт и культура. В кн.: О. Мандельштам. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С.49].
Между тем в стране развёртывалась индустриализация и обусловленная ею коллективизация крестьянства. Впечатления тех лет, особенно картины голодающей деревни, открывшиеся Мандельштаму во время очередной его поездки в Крым весной 1933 года, дали толчок к каким-то новым решениям в нём. Его антисталинские стихи, прочитанные ограниченному, но всё же достаточно случайному кругу знакомых, – из которых кто-то со страху, что только слышал их и не донёс, в то время как кто-то другой из слышавших это сделает вместо него, довёл их до сведения властей, – а также сообщение, вскоре после этого, в феврале 1934 года сделанное Мандельштамом Ахматовой на Пречистенке «Я к смерти готов» – говорят о том, что он в тот момент сознавал, что вышел на роковой рубеж своей жизни.
С.С. Аверинцев с прозорливостью знатока культурных начал угадал посвятительный подтекст в творческой биографии Мандельштама. Он опознаёт его по признаку страха, всегда сопутствовавшего Мандельштаму и сделавшегося предметом художественной его рефлексии. В заметке «Страх как инициация» Аверинцев толкует «острое и опасное переживание мистериальной инициации» в самом расширительном смысле как «настоящую тему поэзии»! Однако Мандельштама тема эта выводила далеко за пределы творчества, выявлялась так, что и современники не могли пройти мимо этого сопутствующего поэту феномена, как будто в ней заключалось отличие его одного. Аверинцев мог исходить из античных сообщений о переживании страха как о непременной компоненте инициации, а в эстетическом контексте – художественного катарсиса. Оставляя за скобками многое из того, что должно быть было известно ему из античных авторов об инициации, Аверинцев лишь отметил, что «в стихах лучше остерегаться чересчур в лоб называть мистерию – мистерией и инициацию – инициацией» [46. – Смерть и бессмертие поэта. Записки Мандельштамовского общества. №11. М., 2001. С.18], и Мандельштам, по его мнению, этому неписанному правилу следовал, хотя с инициацией, что подразумевается, был знаком не понаслышке.
Всё же изучение творческого пути Мандельштама, неотделимого от его жизненного пути в более широком смысле, не может обойтись без обращения к самой инициации, одним из симптомов которой служит экзистенциальный страх. Этапы предполагаемой инициации Аверинцев, по сути лишь касающийся данной темы, понятно, не выделяет. На это требовались бы при всей широте его кругозора средства особого рода, но обращение к ним и не входило в задачу, которую он себе поставил. Он лишь попутно обозначил присутствие в жизни Мандельштама некоего сквозного посвятительного мотива, а в академической науке это уже шаг вперёд в новом для неё направлении.
Очерченный выше вкратце, пройденный Мандельштамом в 20-х годах, продолженный в начале 30-х, путь заключает в себе, как представляется, подтекст, позволяющий соотнести его с признаками христианского посвящения в освещении Рудольфа Штейнера. В жизни человека, избравшего для себя следование Христу, воспроизводятся этапы Страстного пути Христа, начиная с Тайной вечери до Смерти на Голгофе и последующего Воскресения. Они распределяются, по Штейнеру, в такой последовательности:
«Первый – Омовение ног
Второй – Бичевание
Третий – Увенчание Терновым венцом
Четвёртый – Несение Креста
Пятый – Мистическая Смерть
Шестой – Положение во Гроб
Седьмой – Воскресение» [1.06.1908 GA 94 S.53]
«Омовение ног». – Его Христос произвёл за Тайной вечерей, склоняясь к ученикам. Омовение ног, собственно, вписано в биографию художника, в особенности поэта, по самому роду его занятий. Высшее, которому он служит, склоняется в творческом акте к низшему, к эмпирической личности. Его творческая воля, будучи пробуждена, проницает весь его телесный состав и, достигнув ног, сообщает продукту творчества, слову силу убедительности, которой обычная речь лишена. Поэт ощущает со всей непосредственностью, что головой он упирается в Небо, а ступнями – в землю, и чем ощутимее сила упора, тем значительнее преображающая мир сила его слов. «Высшее во мне [взирает] – на низшее во мне», – так видела себя Цветаева внутри творческого акта. О том же со своей стороны свидетельствовала Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи…» Часто цитируемые, – обыкновенно с акцентом на «сора», то есть с выделением момента внезапности, если не случайности, – строки эти говорят о преображающей силе слова поэта.
«Омовение ног» – общее начало и основание события творчества. Поэт не может работать, не ощутив под ногами почву, даже если, как Мандельштам, он возносит поднятое с земли слово высоко над собой, как дароносицу в известном стихотворении. Жест иерея чуткий современник даже в частном разговоре мог уловить в высказываниях Мандельштама: «Он говорит натужно, – отмечал своё впечатление от его речи в дневниковой записи 1928 года К.И. Чуковский, – после всяких трёх-четырёх слов произносит ммм, ммм, – и даже эм, эм, эм, – но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызвала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священнику, выходящему с дарами из «врат». [47. – Корней Чуковский. Дневник. 1901-1969. Том I. М., 2003. С.513]
«Бичевание» и «Увенчание Терновым венцом». – Дальнейшее следование по пути посвящения в христианском мысле, – протекает ли оно, как должно, или, как в случае Мандельштама, спонтанно, – приводит человека к конфронтации со всем окружающим миром. Две эти фазы пути Мандельштама быстро следуют одна за другой.
На второй из ступеней, или этапов, пути «человек учится выносить бичевание жизни. Жизнь доставляет нам страдания всякого рода – физическое и моральное, интеллектуальное и духовное. В этой фазе ученик ощущает жизнь ужасной и непрерывной пыткой. Он должен выносить её с совершенным хладнокровием души и стоическим мужеством. Он не смеет больше питать страха, будь то страх физического или морального рода. Став бесстрашным, он видит во сне сцену Бичевания».
Мандельштам не всегда держался геройски. Не отличался он и хладнокровием, предписываемым внутренними условиями пути. Хладнокровия в конфликтах 20-х годов Мандельштамуму как раз недоставало. Иначе и не могло быть. «Человек из современных общественных кругов едва ли смог бы пройти через это посвящение. Оно требует временной изоляции человека» [48. – GA 103. 30.05.1908. S. 199]. Христианские подвижники, начиная такой путь, обычно временно уходили в затвор, из которого выходили укреплёнными для своих духовных битв и служения в миру спустя годы. Мандельштам не избирал этот путь. Если всё же он на нём оказался, то – следуя своей духовной природе, а художественный поиск в свою очередь удерживал его на нём, так что, храня верность пути, он оберегал и свою творческую свободу. Жизнь, со своей стороны, устраивала так, что взамен добровольного ухода в затвор, поэт должен был принять недобровольную изоляцию от общества, а с ней он не хотел мириться. В конце концов, он оказался в «кричащем одиночестве» (так подытоживает положение Мандельштама в обществе в конце 20-х годов М.Л.Гаспаров). [49. – М.Л. Гаспаров. Ук. соч. С.41]. При таких условиях нарушение душевного равновесия и самого здоровья было закономерно. Мандельштама на этом пути можно сравнить, пожалуй, с человеком, подвергнутым операции без наркоза.
По переходе на третью ступень противостояние человека с миром раз- растается до предела. «Здесь человек должен учиться сопротивляться миру, морально и интеллектуально, переносить пренебрежение, когда нападают на самое для него дорогое. Он должен уметь не склонять головы, когда всё хочет придавить его к земле; уметь говорить «да», когда весь мир говорит «нет» [50. –GA 94. 1.06.06. S. 55].
Принадлежность Мандельштама к пути посвящения, описываемом Штейнером в качестве христианского, выявилась особенно чётко на этапе создания «Египетской марки». Уровень душевной его трансформации, достигнутый на этот момент, может быть описан в выражениях, в которых Рудольф Штейнер характеризовал центральную проблему третьей ступени этого пути: «В ходе этапа, который в христианском посвящении называется Увенчанием Терновым венцом, выступает внушающий ужас феномен, который носит название Стража Порога и который также можно было бы назвать явлением двойника. Духовное существо человека, образованное из его волевых потоков, его желаний и его интеллектуальных способностей, образно является тогда посвящённому в сновидческом сознании. И порой этот образ внушает отвращение и страх, ибо это результат его [посвящённого] добрых и дурных качеств и его кармы; он – образная персонификация всего этого на астральном плане…Преждевременное наступление ясновидения и внезапное появление двойника, или Стража порога, может повести к безумию того, кто не соблюдал всех приготовлений и не предпринимал всех возлагаемых на ученика мер предосторожности» [51. – Там же, S. 56-57]. – В этом свете в переживаниях героя «Египетской марки», – и пытающегося скрыться за ним автора, – нетрудно уловить состояние, спровоцированное ощущением навязчивой близости двойника, от которого не удаётся избавиться. «Парнок», сходством с которым обеспокоен лирический герой «Египетской марки», ощущается определённо в качестве унизительного для человеческого «Я» двойника. Но то было лишь начало глубокого душевного кризиса. В «Четвёртой прозе», на грани полной утраты контроля над собой, Мандельштам делает отчаянную попытку приподняться над собственным своим состоянием, переводя его в план противоборства со всем литературным миром.
Депрессия ненадолго оставила Мандельштама в 1930-1932 годах и начала вновь развиваться, по-видимому, после поездки в Крым, осенью 1933 г. и создания, а затем и – неосторожного на отстранённый современный взгляд – чтения знакомым антисталинских стихов. Такой разворот был сопряжён, вероятно, с принятым в это время Мандельштамом решением открыто пойти навстречу давно рисовавшейся ему впереди своей судьбе. «Я к смерти готов», сказанное в феврале 1934 года Ахматовой, даёт некоторое представление об ожидании, – скажем так, – назначенной судьбой встречи со смертью, в котором он тогда находился.
Обострённая пережитым арестом и допросами на Лубянке депрессия достигла своего предела во время последовавшей затем ссылки в Чердынь, где Мандельштам сделал попытку свести счёты с жизнью, выбросившись из окна больницы. Так поступает человек, которому иначе не удаётся уйти от самого себя, – в случае же Мандельштама – от навязчивой близости своего анти-Я.
Неожиданно попытка эта положила конец острой фазе душевного кризиса. «Прыжок – и я в уме», – спокойно, глядя уже со стороны на случившееся, подытожил Мандельштам пережитое.
В Воронеже, когда душевное равновесие Мандельштама как будто восстановилось, он испытал последний свой творческий подъём. Словно открывалась новая сфера, из которой он черпал интуиции, обретавшие всё более определённую направленность. Он продвигался к теме посмертного бытия, развёрнутой со всей мощью в «Стихах о неизвестном солдате», начатых в Воронеже феврале 1937 г., но законченных уже по окончании воронежской ссылки, в том промежутке между маем 1937 и маем 1938 гг., когда во властных инстанциях решалась его участь.
«Стихи о неизвестном солдате» развивают тему посмертного бытия и посмертного братства душ, чья земная жизнь была оборвана на полях сражений (или в мирных условиях, как жизнь Лермонтова, убитого на дуэли и из этого ряда выпадающего, так что, будто извиняя его, Мандельштам обещает дать за него «строгий отчёт»). Он сам, тот, кто говорит эти стихи, чувствует себя в этой среде новичком:
Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.
Ласточка (домовитая, слепая, хилая) – давно уже прочтена как метафора души [52. – Сравн.: И.Сурат. Мандельштам и Пушкин. М., 2009. Глава «Ласточка»]. Происхождение её раскрывается всё же лишь в контексте одного замечания Рудольфа Штейнера по поводу сновидений как «символов высоких истин»: «Такой сон может быть весьма хорошим знаком: усталая ласточка – смотрение в развитие (символизируемое происхождением ласточки из рептилии), [оно] сперва утомляет и меньше позволяет [душе] расправить крылья, чем при необусловленном движении вперёд в притуплённом состоянии сознания» [53. – GA 264. S.184]. «Ласточка» – человеческая душа, выпорхнувшая из рептилии, которая в человеке тоже есть. «Усталость» возникает в «ласточке» от постоянных усилий, которых требует путь посвящения. Она даже временно может лишить ласточку присущего ей умения летать, как у Мандельштама в «Стихах…». По этой причине появляется образ воздушной могилы, воздушной ямы, в которую проваливаются (как, например, летя в самолёте). Ощущение ухода почвы из-под ног передано намеренно неотчётливой рифмой последней строки в срединных строфах первой и третьей главок:
Будут люди, холодные, хилые,
Убивать, холодать, голодать –
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
– Если первая и третья строчки здесь зарифмованы, то рифмы ко второй строке в четвёртой нет (солдат с твёрдым т на конце – лишь отдалённо откликается на голодать с мягким) и она «повисает».
В литературе о «Стихах…» отмечен их «космизм», мимо которого не могли пройти даже исследователи, для которых это не более чем литературный факт. Американский исследователь творчества Мандельштама О. Ронен всё же решился заглянуть несколько глубже. В статье, опубликованной в США в 1979 году, автор обратил внимание на поразительное сходство существенных мотивов «Стихов…» с содержанием книги французского астронома и популяризатора астрономических (а между строк и оккультных) знаний К.Фламмариона «Рассказы о бесконечном», изданной во Франции в 1872 г., часто издававшейся затем в переводе и в России. Изложение ведётся в форме диалога между астрономом Кверенсом и его умершим старшим другом и коллегой, теперь бесплотным духом Люменом, для которого возможности познания по переходе в иной мир неизмеримо возросли. В описании мира, открытого духовному оку Люмена, в самом деле, многое заставляет вспомнить о «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштама. То же безграничное, наполненное светом пространство, та же нелицеприятная правда о человеке, созерцаемая неподкупными звёздами, та же стремительность перемещений бесплотных душ в нём…Сверхчувственный этот мир вобрал в себя все события, когда-либо происходившие на земле, и даже самые потаённые мысли и поступки людей. Всё там открыто и освещено беспощадным светом, и всё прошлое там налицо – оно там всегда настоящее. Время там стало пространством.
Такого рода сведения директор Парижской обсерватории черпал, конечно, не из астрономической науки своего времени. Устами Люмена он воспроизводит феномен так называемого астрального света, в котором события прошлого, настоящего и будущего предстают перед развоплощённой душой, или перед посвящённым, в «обратной перспективе». В астральном свете «всё обратно» тому, как совершается на земле. «Если перед нами [в астральном мире. – Г.К.] событие, то оно происходит в обратной последовательности, чем та, которую оно имеет на земле. В астральном мире причины наступают после следствий» [54. – GA 94. 2.06. 1906. S.61].
К этому «теперь почти забытому научно-мистико-фантастическому тексту восходит и фабула «Стихов о неизвестном солдате», – твёрдо убеждён О.Ронен [Омри Ронен. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С.98]. Это гипотеза, но совпадение «параметров» «Стихов..» с описаниями Фламмариона столь впечатляет, что гипотеза без обсуждения была принята многими за установленный факт. В пользу её особенно убедительно говорит перечень сражений эпохи наполеоновских войн, который, как заметил О.Ронен, воспроизведён в «Стихах…», по существу, в том же обратном исторической их хронологии порядке, что и в рассказе главного героя у Фламмариона – Ватерлоо (1815 г.), Битва народов при Лейпциге (1813 г.), Аустерлиц (1805 г.), сражение у пирамид во время египетского похода Наполеона (1798 г.). Здесь есть, однако, деталь, показывающая, что мысль Мандельштама работала за пределами проложенного в диалоге Фламмариона русла: к названным у последнего сражениям Мандельштам прибавляет отрицание не:
Я не Лейпциг, не Ватерлоо,
Я не Битва народов. Я – новое…
Если Мандельштам и был знаком с текстом Фламмариона, то он от него, скорее, отталкивался, чтобы на место общеизвестного поставить нечто совершенно новое, известное ему одному. Фактически он говорит, что он не участник громких сражений начала XIX века, созерцаемых в Мировой памяти, но участник некоторого современного аналога земных битв и даже сама эта битва. – Это, конечно, не снижает доказательности гипотезы О.Ронена, но и не снимает напрашивающийся тут вопрос: что, собственно, должно было задержать внимание Мандельштама на описании, столь явственно ведущем в сторону пренебрегаемой им «теософии»? Нечто в высшей степени ему созвучное, как с некоторых пор стали созвучными ему хождения Данте по всем кругам Ада, Чистилищу и Раю. Опыт этот сделался ему внятен с некоторых пор, и он далеко выходил за пределы тем, очерченных в «Рассказах о бесконечном». Остановимся на некоторых моментах «Стихов», которым нет аналогов в рассказе Люмена.
В современных авторитетных российских публикациях произведений Мандельштама «Стихи о неизвестном солдате» печатаются с изъятием главки, в первом, американском издании Собрании сочинений Мандельштама 1964 года, подготовленном Г.П. Струве и Б.А. Филипповым (повторено в 1967 г.), идущей под номером 3:
Сквозь эфир десятичноозначенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.
А за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлём –
Весть летит светопыльной дорогою –
И от битвы вчерашней светло.
Весть летит светопыльной дорогою –
Я не Лейпциг, не Ватерлоо,
Я не Битва народов. Я – новое, –
От меня будет свету светло.
В глубине чёрномраморной устрицы
Аустерлица погас огонёк –
Средиземная ласточка щурится,
Вязнет чумный Египта песок.
Это как раз та главка с перечнем сражений, выигранных либо проигранных Наполеоном, которая, по мысли О.Ронена, обнаруживает генетическую связь «Стихов» с повестью Фламмариона. В результате её изъятия «Стихи» представлены читателю в составе семи главок, или разделов, вместо восьми, как было в первых двух заграничных изданиях. Такое решение современных российских издателей, вероятно, определила неуверенность самого Мандельштама, следует ли включать её в окончательную редакцию текста, о чём впоследствии вспоминала Н.М. Воспроизводя по памяти проблемы, возникшие перед Мандельштамом именно в связи с третьим разделом «Стихов» на заключительном этапе работы над ними, Н.М. сообщает: «… ему не нравилось, что в стихах восемь разделов. Он предпочитал, чтобы их было семь (это его отношение к числам)» [55. – Н.Я. Мандельштам. Третья книга. М. Аграф. С.430]. Пусть так. Логика всепроникающей семиричности, возможно, довлела над сознанием Мандельштама, но всё же никуда нельзя уйти от ясно выраженного у него тяготения к построению стихов согласно числу восемь – либо к восьмистишиям (которые следовали одно за другим в переломном для поэта 1933 году), либо к построению целого на основе восьми строф по восемь стихов в каждой, как в «Грифельной оде».* Одного этого достаточно, чтобы усомниться в том, что отступление от принципа семиричности в «Стихах» было в глазах Мандельштама основанием для удаления из их состава третьего раздела. И почему именно его?
*Введением к весьма продуктивной, на наш взгляд, разработке принципа восьмиричности в стихосложении Мандельштама может послужить лекция о восьмиричном построении халдео-вавилонского посвящения, прочитанная Рудольфом Штейнером 27 декабря 1918 г., GA 187.
Объяснение недовольства Мандельштама стихами третьего раздела следует искать в другом плане. Н.М. припоминала, что Мандельштам, удивляясь им, в то же время не без смущения говорил: «Тут какая-то чертовщина» и «Что-то я перегнул» (Там же). Смущение Мандельштама можно понять в контексте замечания, сделанного Н.А.Струве в прекрасной его книге о Мандельштаме именно к строкам данного раздела: «Мы подходим здесь к ошеломляющему своей дерзостью пророческому утверждению, которое ставит поэта почти наравне с Иисусом Христом: «Я есмь свет миру», – провозглашает Христос в Евангелии от Иоанна (VIII:12). Мандельштам как бы вторит ему:
От меня будет свету светло ».
[56. – Никита Струве. Осип Мандельштам. Томск. Водолей. 1992. С.201] От внимания наблюдательного автора не укрылась некоторая отстранённость поэта от самого себя в данном высказывании, несколько смягчающая его «дерзость»: «Дистанция соблюдена безличным предложением…» [56а. – Там же]. Несмотря на это «внутренний цензор» Мандельштама, сводившего написанные отрывки в одно целое, не мог так просто пропустить эту едва ли не кощунственную строку, которая в то же время его удивляла: откуда она взялась? «что-то я перегнул!».
В памяти Н.М. сохранился важный для нас здесь обмен репликами между ней и мужем в ходе работы над «Стихами о неизвестном солдате»: «Я спросила О.М.: «На что тебе сдался этот неизвестный солдат?» … Он ответил, что, может, он сам – неизвестный солдат». [57. – Н.М. Мандельштам. Третья книга… С. 422] По-видимому, вопрос жены позволил ему прояснить собственное своё место в событиях, навеявших «Стихи»: в состоянии несколько отрешённом от них теперь до его сознания дошло, что он сам, быть может, участник каких-то совершающихся в мире битв. В таком контексте, кажется, проясняется и так смутившее Мандельштама, будто бы самоуверенное, если не вовсе кощунственное, утверждение: «От меня будет свету светло».
Надо обратить внимание, что Мандельштам не воздержался от повтора в однокоренных словах «свету светло», хотя легко мог бы поставить «миру светло». В русской речи «свет» вполне заменяет «мир», но с тем существенным, обычно остающимся в подсознании говорящего, оттенком, что подразумевается мир, освещённый солнцем. Свет, который сверх того вносится в светлый, но всё же земной мир, – нечто привходящее в него дополнительно извне. Этот смысл, собственно, и читается в словах Христа «Я свет миру». Мандельштам будто их повторяет, но делает это, опираясь исключительно на собственный опыт, или, вернее, руководствуясь собственной интуицией. И только отступив от «Стихов», на стадии их компоновки, он ощутил смущение, обнаружив, что дерзнул занять место, которое в мире принадлежит Христу. Однако в момент написания этих строк его интуиция была глубоко верна. Это можно уяснить из описания просветлённых душ по ту сторону черты, отделяющей земное чувственное бытие от сверх-чувственного, которое даёт в своих лекциях Рудольф Штейнер.
Так, в лекции, прочитанной 27 октября 1912 г. в Милане, говорилось: «Начиная с момента смерти мы постепенно освобождаемся от земных уз. Однако в жизни между смертью и новым рождением мы переживаем космические состояния. Мы переживаем их в видениях (in Visionen), занимающих место чувственного восприятия. Затем… на то, что мы переживаем, падает свет Иерархий. После смерти в самом деле наступает состояние того рода, которое мы можем описать следующим образом. Представьте себе, что ваше сознание находится не в вас, а вне вас, в вашем окружении, и у вас нет чувства, что жизнь заключена в вашем теле, но [вы чувствуете], что жизнь находится за пределами вашего тела, и вы чувствуете: вот это – мой глаз, это – мой нос, моя нога. Тогда мы должны были бы переживаемое духовно вне нас отнести к себе самим, должны были бы даже жизнь Бога отнести к себе самим и дать ей отразиться от нас. Такой момент наступает, когда после смерти мы, – словно оглядываясь на человека, – видим всё то, что находится вокруг, отражённым в нас, так что даже Божество отражается от человека. Слишком ли смело было бы принять это как знание, если поэт говорит, что жизнь после смерти есть отражение Божественного? Ведь, наверное, все знают, что Данте воспользовался этой мыслью о том, что в духовной жизни наступает момент, когда Бог видится в качестве человека (als Mensch)». [58. – GA 140, S. 36-37] И на ту же тему в лекции 13 ноября 1912 года в Вене: «Перенеситесь теперь в духовный мир, как если бы вы в нем могли видеть. Там человек восходит вверх как облако видений, там он по-настоящему такой, какой он, собственно, и есть. Тогда [духовные] существа приближаются к нему и освещают его извне. …Возникает момент, когда человек виден столь отчётливо, когда он так озаряем светом Иерархий, что начинает отражать весь внешний мир, и тогда собственно весь Космос отражается от человека. Вы, стало быть, можете представить себе: поначалу вы продолжаете жить наподобие облака, ещё недостаточно освещённого, затем вы отражаете свет Космоса, и тогда вы растворяетесь. Такой момент, когда человек отражает космический свет, существует. До него можно возвыситься. Данте в своей Divina Commedia говорит, что в некоторой части духовного мира Бог виден как человек. Это место говорит о реальном, иначе оно вовсе непонятно» [59. –Там же.S. 79-80]
В «Божественной комедии» Данте место, которое Штейнер имеет в виду (Рай, XXXIII,124-131), гласит (в переводе М.Лозинского):
О Вечный свет…
Явил мне как бы наши очертанья.
(в немецком переводе: Schien unser Ebenbild – явил наше подобие).
Речь идёт, стало быть, об отражённом свете, об отражении света Божества человеком, возвысившимся до «Небес». Так и Мандельштам, уподабливаясь любимому им Данте, отнюдь не переступал предела дозволенного человеку. Он не равнял себя дерзко с Богом, но чувствовал, что по Его милости мог светить миру, о чём стихи и заявляют.
Главка 6 (в нумерации по изданию Струве/Филиппова) посвящена строению человеческого черепа, вызывающему восхищение поэта. Но в какой связи?
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Вероятно, здесь сказались беседы с Б.С. Кузиным, биологом-гётеанистом, излагавшим учение Гёте о метаморфозе и, в частности, о метаморфозе черепа из позвонка. Идея эта, имагинативная в своей основе, или, лучше сказать, выводящая на имагинации, не могла пройти мимо внимания Мандельштама. Ему, – в «Стихах…»,– ясно, что череп – результат длительного развития, венец органической эволюции человека. Поэт взглядом исследует череп: глазницы, предусмотренные природой для органа зрения, он выделяет прежде всего остального. Что удивительного? С открытия глаз человека в Раю начиналась земная история человечества! Только для того ли глаз был создан, чтобы видеть колонны людей, идущих к массовой гибели на полях сражений? – Взгляд, неудовлетворённый тем, что можно увидеть в человеческом черепе сразу, идёт далее. Главку завершают строки с более чем неожиданным образом «чепца»:
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звёздным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец…
«Чепчик счастья» – данная деталь опять выводит на след реалий, описываемых духовной наукой.
Здесь заняла бы слишком много места обстоятельная выдержка из лекции Штейнера, которая даёт картину потоков астрального тела, устремляющихся в организме человека к голове. Ограничимся наиболее значимым в нашем контексте отрывком:
«Мозг как физическое орудие являет нечто, в чём часть потока, идущего от сердца вверх, запруживается. Мозг проницаем для эфирного потока, но непроницаем для астрального потока. Этот последний задерживается в нашем мозгу, так что в регионе головы человека ясновидческое зрение обнаруживает, что астральные потоки, идущие от человеческого тела вверх, в мозгу расширяются, но этим мозгом задерживаются, не могут или могут только ничтожной своей частью проникнуть сквозь этот мозг. Однако эти астральные потоки, идущие снизу вверх и задерживаемые мозгом, обладают определённой силой притяжения к внешним астральным субстанциям, которые нас постоянно окружают в астральной субстанции Земли. Поэтому астральное тело человека, поскольку оно относится к региону поблизости от головы, как бы сшито из двух астральностей: из астральности, постоянно притекающей из Космоса, и той, которая в человеческом теле восходит снизу вверх и притягивается внешней астральностью.
Итак, мы видим, как астральное тело вокруг головы, совсем близко от кожи, имеет как бы утолщение, что-то вроде, – если позволительно столь парадоксально выразиться, – шапки (M?tze), которую мы как астральную субстанцию непрестанно надеваем. Мы имеем такой астральный головной убор, возникающий из утолщения, посредством которого внешняя и внутренняя астральность здесь вблизи головы как бы сшиты. Лучи эфирного тела, которые не задерживаются мозгом, проникают через этот астральный чепец (astralische Haube), или шапку, насквозь, и тем светлее и ярче являются они ясновидческому взору, чем они меньше содержат влечений, вожделений и страстей, аффектов человеческой природы. Благодаря этому то, что мы называем человеческой аурой, получает вид венца…» [60. – GA 129. 26. 08. 1911. S.196-197].
Так на границе двух астральностей, внутренней и внешней, встречающихся у головы, перед духовным оком исследователя сверхчувственной организации человека (но судя по «Стихам…» не для него одного) имагинативно возникает объективный образ чепца.
(Связь темы черепа с упоминанием имени Шекспира в «Стихах..» в литературе была, конечно, отмечена: Мандельштаму припомнилась сцена на кладбище с черепом Йорика в «Гамлете», а отсюда мысль вывела его на самого творца бессмертной трагедии. Но главное не в этом, а в том, что «чепчик счастья» – источник творческой мощи английского барда.)*
* Образ чепца, образующегося при встрече астральных потоков, внутреннего и внешнего, у головы человека, мог, конечно промелькнуть в разговорах, которые Мандельштам и (антропософ) Андрей Белый вели между собой летом 1933 года в Крыму. Но и в этом случае «чепец» в стихи Мандельштама мог проникнуть не иначе, как благодаря узнаванию в этом образе поэтом отзвука некоторых собственных опытов. Прямое заимствование случайного образа надо, конечно же, исключить.
Всё это говорит за то, что в главном Мандельштам не нуждался в заимствованиях из тех или иных литературных источников. У него было достаточно собственных интуиций или же прямых опытов, подобных тем, о которых рассказал Фламмарион.
* * *
«Стихи о неизвестном солдате» оканчиваются патетической картиной собрания душ, связанных общим прошлым – все пали на полях сражений, для всех преждевременно оборвалась земная жизнь. Чувство локтя, присущее боевому товариществу, ощутимо проступает в своеобразной перекличке умерших в финале. Они не откликаются пофамильно, но свидетельствуют о том, что жили на земле, обращая взгляд не к моменту смерти, а к моменту рождения:
– Я рождён в девяносто четвёртом…
– Я рождён в девяносто втором…
В посмертье они как будто хотят укрепиться в сознании своего земного Я, чтобы не потеряться на «том свете».* В общем их строю авторское Я на равных включается в перекличку:
И в кулак зажимая истёртый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рождён в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадёжном году, и столетья
Окружают меня огнём.
* «После смерти, – говорит Рудольф Штейнер, – мы имеем наше сознание благодаря тому, что оглядываемся на время нашей прежней [земной] жизни»[3.12. 1914 GA 174a. S. 37].
Причина определения ненадёжный для 1891 года в «Стихах» не указана, но она подразумевается и очевидна: год массового голода, охватившего 26 губерний России, был ненадёжным для всей страны. Родиться и начинать жизнь в таком году значило, как в гороскопе, под знаком всенародной беды проходить и всю последующую жизнь, тогда как для человека, стремящегося к обретению жизненных опытов во всей их полноте, желанна скорее жизнь под более благоприятным знаком.
Голод 1891 года не был вызван одним только недородом предыдущего года. Бедствие усугубила политика форсированного экспорта хлеба, которую в конце 80-х годов всеми доступными средствами проводил министр финансов И.А.Вышнеградский в целях достижения активного торгового баланса и через это – притока золота из-за границы в казну. Накопление достаточного золотого запаса было предварительным условием готовящейся денежной реформы, в ходе которой предполагалось подвести под кредитный рубль золотую основу. Недальновидная и негибкая эта политика привела к опустошению хлебных запасов к моменту, когда разразился неурожай, в результате чего справиться с голодом собственными силами Россия в 1891 году оказалась не в состоянии.
Мандельштаму нередко приходилось голодать в молодости, да и позже они с женой находились большей частью на скудном пайке. Мандельштам поэтому был особенно отзывчив к недоеданию других, но картины бедствующей деревни весной 1933 года в Крыму будто воскрешали и позволяли видеть воочию, что происходило в стране в год его рождения.
По возвращении из Крыма в Москву Мандельштам как будто успел отвлечься от крымских впечатлений – он увлечённо читает ренессансных авторов и пишет ряд восьмистиший. На самом деле он всё ещё находится под впечатлением от виденного в Крыму. «В этот период,– свидетельствует Н.М., – у О.М. как бы боролись два начала – свободное размышление и гражданский ужас» [61. – Третья книга, с.313]. «Свободное размышление» питалось «чтением итальянцев» и вылилось в восьмистишия, но «гражданский ужас» продиктовал поэту сначала строки «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…», а затем в ноябре стихотворение, погубившее его: «Мы живём, под собою не чуя страны…». В знаменитом ныне этом стихотворении дан портрет главного виновника голода, вызванного, как и голод 1891 года, политикой государства: принудительными хлебозаготовками в тех же, что и в 1880-х гг., целях форсированного вывоза хлеба на мировой рынок ради получения необходимой для выполнения программы индустриализации иностранной валюты.
Протестные стихи были прочитаны Мандельштамом по сути ограниченному числу слушателей, но он едва ли рассчитывал, что они не выйдут за пределы их круга. Скорее, наоборот. Надо помнить, что Мандельштам смотрел на сочинение стихов не как на частное дело, а на поэта не как на частное лицо. Стихи должны были выйти в открытый мир и там начать действовать уже независимо от написавшего их поэта. Что стихи при таких условиях не могут не дойти до властей, для Мандельштама тогда было вопросом второстепенного значения. Уклониться от этого гибельного образа действий он был, видимо, не в состоянии. Его толкала к нему природа пророка, в нём заключённая.
«В нём кипела ярость ветхозаветного пророка», – обмолвилась однажды Ахматова [62. – Цит. по: М.Л.Гаспаров. Поэт и культура…С.41]. Мандельштам ещё в молодости (1914) и вправду нетерпеливо восклицал:
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Эти слова могли бы выйти из уст любого из ветхозаветных пророков, окажись именно Мандельштам на месте кого-либо из них.
Однако сверх того существует ещё библейская параллель к теме голода как биографического стержня. Она восходит к личности пророка Илии, стоящего особняком в череде пророков Израиля, больших и малых.
Илия был в некотором роде виновником жестокой трёхлетней засухи, поразившей страну в правление царя Ахава и Иезавели, жены его. Это он, устами которого говорит сам Яхве, вызывает продолжительное бездождие в наказание народу, давшему увлечь себя служению финикийскому Ваалу. Слово Илии обладает властью запереть небо. «И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» [III Царств, 17,1]. Но он же, Илия, принял на себя и все тяготы голода, посетившего страну. Он удаляется к потоку Харафа, где его питают вороны, а затем в Сарепту Сидонскую, где живёт в горнице у одной вдовы, отдавшей ему остатки съестных припасов, возвращённых ей им стократ. В толковании Рудольфа Штейнера на это место всё это – имгинативные образы внутренних состояний пророка: вдова в Сарепте – это сама его душа, а воскрешённый им сын вдовы – некоторая уже умершая, но воскресшая часть его самого. Штейнер говорит о добровольной аскезе, которой подвергал себя Илия во время охватившего страну голода, и внутреннем росте пророка: «Он голодал поистине не для того, чтобы подняться в высшие миры, он голодал не из какого-либо иного побуждения, коме того, из которого голодали другие, – не просто для того, чтобы разделить их судьбу, но чтобы разделить её с ними в повышенной степени» [63. – GA 61. 14.12.11. S.205]
Наконец, по прошествии трёх лет тяжёлого испытания, наложенного Яхве на народ, это он, Илия спасает страну от засухи и её жителей от голода, одолев захвативших власть в стране жрецов Ваала (и стоявшую за ними царицу Иезавель) в состязании на горе Кармель и вызвав тем самым благодатный дождь.
Одетое имагинативными образами жизнеописание Илии в Библии завершается исключительной по силе своего воздействия картиной вознесения Илии на огненной колеснице на Небо, увиденной очами Елисея, которому Илия успел бросить милоть, плащ, и тем самым передать миссию пророчествования в Израиле: «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более» [IV Царств, 2, 11-12].
От этой сцены Мандельштама отделяли столетия, но это они обступили его огненной стеной в заключительном видении «Стихов о неизвестном солдате». Почему бы иначе он упоминал о них, явно на переходе в собственное инобытие?
Несколько замечаний в заключение
относительно поэтики позднего Мандельштама
сравнительно с лекционным стилем Рудольфа Штейнера
Как вспоминала Э.Г.Герштейн, Мандельштам в ответ на её признание в том, что «Разговор о Данте» ей непонятен, «добродушно» объяснил: «Я мыслю опущенными звеньями»[64.– Э.Г.Герштейн. Мемуары. СПб., 1998. С. 19]. Собственно, на этом вообще держится поэзия: что-то, – и это в ней, пожалуй, наиболее важное, – остаётся недосказанным (его угадывает чувство читателя). Недосказанное мандельштамовских стихов иной природы. За ним таятся умственные операции, произведенные где-то на подходах к стихам, но читателю не очевидные. Поэт сплошь и рядом сопрягает вещи, между собой в разговорном обиходе не связанные, но поставленные в связь, увиденную каким-то боковым зрением. Распознавание подобных периферийных связей у Мандельштама в таких случаях чрезвычайно затруднено. Однако в тех стихотворениях, в которых соединительные звенья не выпали, ясно видно, каким образом сочленяются вещи, между которыми профанный опыт связи не подтверждает. Примером могут служить строки из стихотворения «Фаэтонщик», написанного по свежим впечатлениям от поездки на Кавказ в 1930 году, когда там ещё ходили фаэтоны:
Словно розу или жабу,
Он берёг своё лицо…
Соотнесение «розы» и «жабы» в традиционной шкале эстетических ценностей бывает оправданно по контрасту, как в сказке Х.Андерсена «Дикие лебеди», где жабы, символ безобразия и нечистоты, превращаются в свою противоположность, в прекрасные розы от одного только соприкосновения с телом невинной девушки. Жаба, взятая отдельно, может быть сочтена прекрасной как видовой экземпляр, но рядом с розой она попадает в поле эстетического восприятия и занимает положенное ей там место. У Мандельштама откровенно и не без вызова устоявшимся представлениям об эталонах безобразия и красоты жаба и роза поставлены в один ряд. Заметим, в лице фаэтонщика он не видит черты сходства с розой и жабой одновременно. В качестве основания для столь тесного их со-поставления Мандельштам выделяет вторичный признак: роза и жаба требуют одинаково бережного отношения к себе. В связь между собой они приведены опосредованно, и соединительное звено между ними тут как раз не выпало, «опущенного звена» в сопоставлении розы и жабы в «Фаэтонщике» нет. Та и другая взяты в качестве канонически контрастирующих величин, однако существенные различия между ними отодвинуты в сторону, они стали в контексте стихотворения несущественными.
Две эти строки – образец приёма, к которому прибегает мышление, не усматривающее между вещами в пространстве объективно присущих им качеств и соответственной ценности их для человеческого восприятия. Вещи в пространстве безразличны друг к другу, отношения между ними можно устанавливать произвольно. Мандельштам, ставя своего рода знак равенства между вещами, располагающимися на разных уровнях шкалы эстетических ценностей, показывает себя предтечей резко выраженного номинализма постмодерна., потерявшего понятие об иерархичности бытия и утверждающего вместо того скучную горизонталь произвольно сопоставляемых вещей.
Если бы Мандельштам работал в одном только этом ключе, о его стихах как о событии искусства не приходилось бы говорить. Однако он был слишком художник, чтобы, отказываясь от общепризнанных понятий, в частности о красоте, не пытаться воздвигнуть на их месте нечто совершенно другое. Собственно, он и не искал им замену. Положение было как раз обратным: он отменял обиходные значения в языке, которым пользовался, поскольку в каждом отдельном случае искал – и находил! – средства выражения для вещей, не умещающихся в существующие нормы мышления и языка.
В контексте драматического разрыва с поэтикой первого периода своего творчества (на который, если присмотреться внимательно, только и обращено восхищение Ахматовой; о его новой поэтике она отозвалась уклончиво: «Сложнее и таинственней был [сравнительно с цветаевским. – Г.К.] путь Мандельштама». – [64. –Листки из дневника. // Анна Ахматова. Собр. соч. М.,2001. Т.5. С. 156] ключевым был для Мандельштама момент осознания того, что «ни одно слово не лучше другого» (в «пиндарическом отрывке» «Нашедший подкову»). В этом он разошёлся с традицией, да и с самим собой прежним, сосредоточенным, по свидетельству знавших его, на поиске именно нужного слова. Он разительно разошёлся в этом с Цветаевой, на противоположном полюсе поэзии Серебряного века утверждавшей своим творчеством обратное, убеждённой в том, что звучание и значение в нужном слове совпадают (отсюда каскады цветаевских аллитераций, тогда как аллитерации Мандельштама крайне редко набирают цветаевскую силу, а подчас искусственны, сравн. напр.: «Воронеж – ворон, нож»). Однако Мандельштам не говорил, что нет лучшего порядка слов. Как раз на установлении единственно подходящего при данной задаче сопряжения слов концентрируется его художественная воля.
Стихи позднего Мандельштама – следы более высокой действительности, целостность которой остаётся за пределами возможностей прямой передачи средствами земной речи. Ресурсы языка, находящегося в общем пользовании, всегда ограничены в передаче опытов сверхчувственного восприятия или касания сверхчувственных реалий в художественной интуиции. К наличным же средствам языка в любом случае приходится обращаться, чтобы донести до его пользователей то, что в него не укладывается, но для них жизненно важно.
С этой проблемой постоянно имел дело Рудольф Штейнер, старавшийся донести до слушателей своих лекций результаты предпринимаемых им исследований в мире, к которому его слушатели принадлежат своим происхождением, своим существом, своим настоящим и будущим. Штейнер определял эту свою проблему так: «…всё возникающее во времени имеет своё начало в вечном. Вечное же недоступно чувственному восприятию… Наш язык рассчитан на мир внешних чувств, и то, что мы им обозначаем, тотчас же принимает характер этого мира внешних чувств». [65. – Рудольф Штейнер.Из летописи мира. М., 1914. С. 2-3] Два эти положения послужили отправным пунктом штейнеровской реформы языка.
В своих книгах, столь неудобочитаемых при существующих навыках чтения (в оригинальных текстах это ощутимо гораздо сильнее, чем в переводах, неизбежно сглаживающих особенности авторской манеры изложения), он выковывал язык, поставленный на службу основной своей задаче – средствами языка передать содержание, лежащее за пределами чувственно воспринимаемого.
При этом Штейнер исходил из возможности сопряжения в речи чувственного с сверхчувственным. Эта возможность заключена прежде всего в том, что логика, которой мысль следует, одинакова во всех мирах, в которые человек «вхож» – как в мире чувственно воспринимаемом, так и в мире элементов и выше. Из этой установки вытекал ряд приёмов, к которым Штейнер систематически прибегал в изложении данных своих наблюдений и исследований.
В его лекциях, пожалуй, прежде всего обращает внимание уклонение автора от прямого обозначения предмета, имеющегося в виду. Он говорит, например: «Человек в высокой степени независим от того, что является его физическим окружением», вместо того, чтобы, как кажется, просто сказать: «человек в высокой степени независим от своего физического окружения». Досадный, на первый взгляд, даже затрудняющий чтение (не слушание, так как приёмом этим Штейнер пользовался исключительно в лекциях) этот приём на самом деле служил одной цели: с его помощью Штейнер раздвигал пространство между слушателем и предметом, отчего форма изложения приобретала открытость для сверхчувственного, а слушатель, следя за изложением, включался в эфирный поток речи лектора. Подобным же образом частые повторы уже сказанного у Штейнера создают внутренне протяжённую, разомкнутую, открытую форму.
Труднее заметить нечто подобное у Мандельштама, но следует сказать, что он пытается достигнуть того же, хотя и обратными средствами. Он так тесно ставит друг к другу обычно не связанные между собой вещи (имена существительные), что сколько-нибудь свободного места, зазора между ними не остаётся. Однако парадоксальное их сопряжение упраздняет самоё вещность, так что, по существу, остаётся одно только качество, которое, собственно, и притянуло данную вещь/вещи в стихи. Стихи Мандельштама, по всем признакам, развёрнуты в мире элементов, в котором качества вещей существуют отдельно от них самих: твёрдость, текучесть, а совсем конкретно-образно, например, вот так:
Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом…
Различие между способом подачи материала у Штейнера (научным) и у Мандельштама (художественным) можно проиллюстрировать также следующим образом. – Язык Мандельштама, как это поэзии свойственно, метафоричен. Штейнер к метафорам не прибегает, метафоры не принадлежат к средствам языка его науки, как и науки академической [66. – См. подробнее: M.M. Sam. «Ein Stil, der vorgestelt werden kann durch und durch in Bildern…» // Das Goetheanum 45/2003], но он пользуется сравнениями, чтобы через них показать один из аспектов подразумеваемой вещи (никогда,– чтобы расцветить её). За один раз вещь бывает описана лишь с одной стороны; в другой раз она же будет описана ещё с одной и так далее. Благодаря этому на пересечении таких описаний у слушателя формируется некий целостный образ, возводящий понимание в конечном итоге на более высокий уровень чистых имагинаций. Штейнер не даёт определений к тому, что можно выразить только имагинативно.
Избранный Штейнером способ подачи материала будит в слушателе/читателе чувство, но чувство, совершенно свободное от примеси субъективности (внимание слушателей Штейнер-лектор на себе не задерживает). Познание даётся здесь в безгрешной форме. Таков этот единственный в своём роде, найденный Рудольфом Штейнером способ преподнесения высоких истин, оставляющий человека свободным.
Поэт, напротив, охвачен стремлением овладеть всей вещью сразу, и ему это удаётся, поскольку он мыслит метафорически. Он не мог бы, – да он такой задачи перед собой и не ставит, – представить её, как это делает Штейнер, в последовательном развёртывании аспектов с тем, чтобы суммарное выразилось не в словах, а в ощущении причастности к более высокому бытию, приближающейся к внутреннему созерцанию.
Однако, так же, как и Штейнер, Мандельштам во втором периоде творчества работает с языком, добиваясь подчинения его художественной интуиции, проникавшей в мир, внешним образом не воспринимаемый. Его язык, в отличие от языка Штейнера, в каждом стихотворении свой. Слова этого языка, по меткому определению исследователя творчества Мандельштама Г.М. Седых [67. – Ук. соч. С.14], наполняет «контекстный смысл», действительный только внутри отдельного стихотворении. При этом традиционный язык поэзии претерпевает у Мандельштама трансформацию, выводящую за рамки собственно лирики в традиционном понимании.
Мандельштам многозначительно, своего рода зароком себе, начинал очерк о Комиссаржевской в «Шуме времени» словами: «Мне хочется говорить не о себе…Память моя враждебна всему личному». В столь декларативном для начала очерка заявлении сказалась созревшая в поэте потребность перейти с языка личных чувств, которым поэзия даёт выход, на тот язык, которым через поэта говорил бы сам мир. То была – найденная Мандельштамом не только для прозы – установка на такое расширение личного Я, при котором оно, не утрачивая себя, может высказываться уже не в качестве точки, по отношению к которой весь остальной мир – периферия, но с позиции Я, которое с периферии обращает взгляд внутрь, ибо это та периферия, которая вмещает в себя весь мир.
Разумеется, поэт не может совершенно отойти от себя. Его речью движет чувство, но и чувство у Мандельштама становится иным, нежели чувство, которым жива традиционная лирическая поэзия. Объективность его творческого импульса сообщает чувству качество если не святости, то недосягаемой в иных случаях чистоты.
Мандельштам не создавал универсального языка новой поэзии, но у него русская поэзия претерпела глубокое преобразование. Она, которая прежде была языком Души, стала овладевать языком Духа.