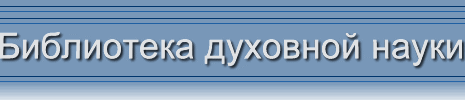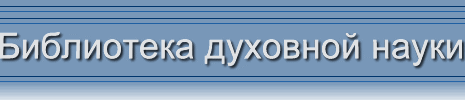Бек Татьяна Александровна (1949-2005) Сборник стихотворений
* * *
Пожелтел и насупился мир.
У деревьев осенняя стать.
Юность я износила до дыр,
Но привыкла – и жалко снимать.
Я потуже платок завяжу,
Оглянусь и подумаю,
что
Хоть немного ещё похожу
В этом стареньком тесном пальто.
* * *
Вечно манили меня задворки
И позабытые богом свалки...
Не каравай, а сухие корки.
Не журавли, а дрянные галки.
Улицы те,
которые кривы,
Рощицы те,
которые редки,
Лица,
которые некрасивы,
И – колченогие табуретки.
Я красотой наделю пристрастно
Всякие несовершенства эти...
То, что наверняка прекрасно,
И без меня проживёт на свете!
* * *
Снова, снова снится папа,
Вот уже который день...
Вечное пальто из драпа,
Длинное,
эпохи РАППа,
Я кричу: «Берет надень!»
Но глядят уже из Леты
Свёрлышки любимых глаз.
Нос картошкой. Сигареты.
«Изменяются портреты», –
Повторяю в чёрный час.
На морозе папа-холмик...
Я скажу
чужим
словам:
– Был он ёрник, и затворник,
И невесть чего поборник,
Но судить его – не вам!
* * *
Беззащитность напоказ,
Боевитая ранимость, –
Презираю вашу мнимость
И хитро косящий глаз!
Тот уже бесспорно врёт,
Кто,
восторги примечая,
Своего сиротства гнёт
Расписал за чашкой чая.
Не назойлив, не расхож
Истинной печали трепет.
Все-то щёлочки залепит.
В этот мрак – не попадёшь.
Поэт
Был и ты когда-то молод,
Зол и этим интересен.
Бескорыстие и голод.
Мало денег – много песен.
Звук был низок и неистов.
А потом
пошёл
на убыль...
Что мне гипсовые губы
Облупившихся горнистов?!
* * *
Л. Д.
Одиночество в душном кафе.
Но,
как в зеркале, я замечаю;
Одинокий старик в галифе
Заказал себе хлеба и чаю.
А когда погляжу за окно,
То увижу, как на амальгаме:
Солнцу холодно, солнце одно
И озябшими машет руками.
О, куда бы ни вёл меня путь,
Мне повсюду маячит моё же...
Наше внешнее – это не суть.
Мы родные! Мы очень похожи.
От рождения нас в кожуру,
В чешую, в оперенье одели...
Я умею глядеть сквозь кору
И поэтому, жалуясь, вру:
Мне не так одиноко на деле!
Дерево на крыше
Я – дерево, растущее на крыше.
Я слабосильнее, кривее, ниже
Обыкновенных, истинных. Они же
Мнят, будто я – надменнее и выше.
Они – в земле могучими корнями,
Как ржавыми морскими якорями.
А я дрожу на цыпочках над ними –
Желанными, родными, неродными...
И не в земле, и до небес далёко.
– Вы слышите, мне очень одиноко,
Заброшенному чудом в эту щёлку! –
Лишь ветер треплет рыженькую чёлку.
Миг
Часто день суетлив и бездарен,
Разворован, размыт, разбазарен,
Но бывает – запомнится миг...
В зимнем дворике дворник-татарин
На скамейке разлёгся, как барин,
В ожиданье друзей-забулдыг.
Не заметен, не страшен, не жалок,
Всё твердит про какой-то «подарок».
И никто во дворе не прервёт
Ни горелок, ни пряток, ни салок...
Он глядит на детей и на галок
И татарскую песню поёт.
* * *
При тросточке, над бездной,
Шёл человек чудесный
С ужасной бородой,
С улыбкой неуместной
И тайною бедой.
Он объяснял нам чинно:
Кручина не причина
Отчаиваться, раз
Есть курослеп и чина,
Ольха, берёза, вяз.
С улыбкой виноватой,
В рубашке полосатой,
Он – баламут и мот,
Но вовсе не бездельник –
Сказал, что проживёт
Без счастья и без денег,
Поскольку есть репейник
И ласточкин полёт...
Я знаю, что не врёт.
* * *
Если вы меня не перебьёте,
Я вам человека покажу.
Это ваш товарищ по работе
Или же сосед по этажу.
Совершенно неуместный некто.
Пустомеля, спица в колесе,
Пугало Рязанского проспекта
Или Хорошевского шоссе.
Птичьего ли рынка посетитель,
Шахматных ли споров краснобай, –
Он влюблённый, а не просто зритель,
Как его в сердцах ни называй.
Сам он и не думает про это,
Я же вам ручаюсь головой:
Без его линялого берета
Вымрет город,
вымрет деловой...
* * *
Ты неверно живёшь. Ты не видишь ни грушевых веток,
Ни грошовых сандалий старухи, сидящей в кино…
Одинокий охальник, ничей ни потомок, ни предок,
Опечатка, зиянье, забытое цепью звено.
Как безжалостно небо! Душа оступилась – и крышка:
Потеряла дорогу,
своих не находит начал.
А ведь был – и очкарик, и школьник, и чей-то сынишка;
И высокие звёзды подзорной трубой приручал;
И лимонниц любил, и капустниц; и карта Европы
Волновала как тайна; и бабушка пела про степь...
Я живое лицо различаю под ретушью злобы:
Это просто усталость –
ещё восстановится цепь!
* * *
Ревностью испепеляет мать
Ту, за которой стоит чужбина.
Я твоего не присвою сына –
И не подумаю отнимать.
Здесь у трагедии – жест игры:
Песен и сказок полна корзина...
Я твоего не похищу сына –
Я постою с ним возле Куры.
Здесь у трагедии – вид кинто:
Крепко упрятана сердцевина.
...Лучшего
я разглядела
сына:
Сванская шапочка, и пальто
Настежь, и грубые башмаки.
Этого не засосёт трясина.
Я твоего полюбила сына
Всем географиям вопреки.
Не разменять ни ему, ни мне
Золота родины, речи, клана.
...Как над Курою стемнело рано –
Словно задёрнули свет в окне!
* * *
Ночные наши дни темны и окаянны...
Давайте же прервём напрасные труды,
Поставим васильки в гранёные стаканы
И станем изучать историю беды,
Которую, увы, мы знаем препаршиво.
А как сказал один непревзойдённый муж,
В китайских башмаках немецкого пошива
Россия шла и шла сквозь реквием и туш.
...Шагает и теперь по направленью к безднам
В кружении крутом откормленной мошки.
И в облаке вражды,
и с гонором болезным, –
И требуют жратвы всё те же башмаки!
Однако мне ль судить,
когда я плоть от плоти
И правнучка её, и пригоршня, и пясть...
Невероятный свет,
сполохом на болоте,
Морочит, и ведёт, и не велит пропасть.
* * *
Далеко, за кустами жасмина
Юность, тёмная, как мезозой, –
Где на все наши вольно и смирно
Отвечала я страшной грозой, –
Так боялась вмешательства.
(То есть –
Посяганий, советов, облав).
...Я не знала, что главная доблесть –
Сохраниться, с людьми не порвав.
* * *
И эта старуха, беззубо жующая хлеб,
И этот мальчонка, над паром снимающий марки,
И этот историк, который в архиве ослеп,
И этот громила в объятиях пьяной товарки,
И вся эта злая, родная, горячая тьма
Пронизана светом, которого нету сильнее.
...Я в детстве над контурной картой сходила с ума:
«На Северный полюс бы! В Африку! За Пиренеи...»
А самая дальняя, самая тайная соль
Была под рукой, растворяясь в мужающей речи.
(...И эта вдова – без могилы,
где выплакать боль,
И этот убийца в ещё сохранившемся френче...)
Порою покажется: это не век, а тупик.
Порою помнится: мы все – тупиковая ветка.
Но как это пошло: трудиться над сбором улик,
Живую беду отмечая лениво и редко!
Нет. Даже громила, что знать не желает старух,
И та же старуха, дублёная криком: «С вещами!»,
И снег этот страшный, и зелень,
и ливень, и пух –
Я вас не оставлю. Поскольку
мне вас завещали.
* * *
Всё кончается!
С каждой кончиной
Жизнь уходит, пощады не зная.
...Этот стол. Этот нож перочинный.
Эта чистая шаль кружевная?
И рукав от военной рубашки,
И гребёнка, и лампа, и клещи,
И в коробке – старинные шашки,
И другие ненужные вещи –
Всё, что пахнет родным человеком
И внезапно бросает в рыданье, –
Стало памятью и оберегом,
На глазах обращаясь в преданье.
* * *
Властолюбие – тёмная ересь,
Превращённая похоть и месть...
Лучше пить. Лучше спать изуверясь, –
Чем чужую свободу изъесть.
Он на ясную душу нацелен –
Вымогатель, вампир, златоуст...
Подчиняющий – неполноценен,
Посягающий – болен и пуст.
– Раболепства алкал – подавись им! –
Для меня ж,
при погоде любой,
Ты уродлив, поскольку зависим
От того, кто подавлен тобой.
Отрываясь от важного дела,
Попадая в лихой переплёт, –
Я вас всех, как ни странно,
жалела:
Вы же мрёте без рабьих щедрот!
Я и слушала вас, и вздыхала,
Сострадая натуре крутой.
Только вам понимания мало –
Обожанием вас удостой.
Нет уж, дудки! Прильнув и отпрянув
(Ты прости меня, бедный злодей), –
Я бежала бегом от тиранов
В равнодействие добрых людей.
...А на старости лет (или раньше),
Озаряя деталью рассказ, –
О тираны мои, о тиранши! –
Я сложила бы
Сагу
о вас.
* * *
Это что на плите за варево,
Это что на столе за курево?
Я смутилась от взгляда карего
И забыть уже не могу его.
Там, за окнами – вьюга страшная,
Тут пытают перо с бумагою...
Мне сказали, что я – отважная.
Что мне делать с моей отвагою?
– Коль отважная, так отваживай. –
...Но какая тревога – нежная!
О, любовь моя, – свет оранжевый,
Жар малиновый, буря снежная...
* * *
Не лицо мне открылось, а свет от лица.
Долгожданное солнце согрело поляну.
Я сказала себе,
что уже до конца
Никуда не уйду и метаться не стану!
Это было как ясная вспышка во тьме,
Это было отчётливей вещего знака...
(Так больного ребёнка в счастливой семье
Необузданно любит бездетная нянька.)
Я сейчас не хочу ничего объяснять,
Но по этому свету,
по этому знаку
Я – невнятная дочь и небывшая мать –
Ощутила любовь как могучую тягу!
...Разолью по стаканам кувшин молока:
Отстоялось на холоде – и не прокисло...
Надвигается вечер. Плывут облака.
И людская порука исполнена смысла.
* * *
Д. З.
В этой стёганой куртке,
похожей на праздничный ватник,
Ты принёс мне подарок –
копилку для медных монет, –
Мой возлюбленный
(нет! соревнитель, соперник, соратник),
Бедуин, и алхимик,
и милостью Божьей поэт.
Я сама не своя... Я сама не твоя...
Но тебе лишь
Раскрываю нутро,
где царят паутина и пыль.
Ты мне веришь, скажи?
Ты мне веришь? (Конечно, не веришь).
Настоялась брусника –
откроем хмельную бутыль.
– Как ты жил до меня, –
расскажи в произвольном порядке.
– Чур-чура, – отвечаешь. –
Сегодня рассказчица – ты.
...Мы – отсталые дети:
нам только бы жмурки да прятки.
Лишь судьба, как орлица,
с небесной глядит высоты.
Я закутаюсь в шаль,
создавая умышленный образ.
Ты набьёшь самокрутку
опасно-лихим табаком.
...А за окнами солнце
набухло, как зреющий колос.
И рассвет, точно песня,
тоскует незнамо по ком.
Я тебя не отдам
ни в разлуку, ни в дым, ни в потерю,
Ни в заморскую бурю,
ни в русскую злую пургу...
– Ты мне веришь, скажи? Ты мне веришь?
– Конечно, не верю.
Но уже без тебя (кем бы ты ни была)
не
могу.
* * *
И. Ц.
«Родиться в России с умом и талантом» –
Несчастье! Но хуже – родиться с гордыней,
Лишённой смирения... Девочка с бантом
Глядела как в шоке на ельник, на иней,
На хлебное поле в сокровищах сорных,
На мелких улиток, закрученных туго,
На дальние звёзды размером с подсолнух,
На хищных зверей карусельного круга,
На фрески в метро и на школьную доску...
Висела на брусьях. Зубрила таблицу.
Хозяйственным мылом стирала матроску
И строем ходила на «Синюю птицу».
А мир наплывал как любовь и угроза,
Как страшное и вожделенное чудо...
Казалось: душа развернётся как роза.
Случилось: уродливый бунт из-под спуда.
...Уже на ветру покосился треножник,
Своей кривизною судьбу повторяя.
И скоро хореи размоет раёшник –
Похожий на рой и далёкий от рая.
* * *
Мне ничего не надо.
Я падаю в себя.
В.Ходасевич
О, покуда живёшь, – как материя, зреешь,
Ибо существование алчно и сыро...
Я – избыток меня, не желающий зрелищ,
Уходящий в молекулы тайного мира, –
Чтобы там отмолчаться и выстроить долю,
Точно в школьном углу – в наказанье за норов.
А ещё я завидую зимнему полю,
Где животные могут отдельничать в норах!
Смерть огромней, чем жизнь,
но реальней, чем символ.
Это знанье лежит у судьбы в подоплёке...
Бог пришёл и баюкает: деточка, спи, мол,
А проспишься – иди и расти по дороге.
* * *
То ли сполох беды, то ли радуга,
То ли Муза в мужском пальто...
Я не вашего поля ягода!
Я не ягода. Я не то.
...Грянут с неба огромные градины –
Станут прыгать, как злой горох!
Но царапины, шишки, ссадины
Равнодушьем покроёт мох.
Я любила, но больше – плакала...
Комментарий
даю
к судьбе:
Если девочку стригли наголо,
То она навек не в себе, –
Как в чужой, недающейся местности
(Поперёк. Вразрез. Не в ладу.), –
Всю-то жизнь умирать от пресности,
Точно рыбе морской – в пруду.
* * *
Какая родословная без мифа,
Который разом горек и лучист?
Мой дед
скончался
от сыпного тифа,
А был красавец и эсперантист.
На перекрёстке времени и места,
Где вскоре воцарится кабала,
Двоюродная бабка из протеста
Взяла и яду в полдень приняла.
Вас прежде срока уложила Клио
В отдельную древесную кровать:
Не выгнула, как сталь не закалила,
Изъяла до террора... Благодать!
По возрасту – не предки вы, а дети
Мне, выросшей в массовке тупика...
А смерти нет. Есть участь – лихолетье
Как тяжкая, как общая река.
* * *
Сколько можно канючить
и жить на проценты от боли?
Я сама на себя
выливаю ушат новизны.
Мне сейчас хорошо, как бывало
прогульщицей в школе:
На газоне лежать, и курить,
и рассказывать сны,
И делиться с дружками
излишками бреда и срама,
И насвистывать джаз,
и приманивать будущий крах,
И глядеть в небеса,
и – когда раздвигается рама...
...Мне опять хорошо,
как на ранних (ау...) поездах!
Если где лотерея,
то я покупаю билеты.
Если «Овощи-фрукты»,
то мне по карману хурма.
А внизу, в переходе,
любитель рисует портреты,
Где утрирует прелесть, и льстит,
и почти задарма.
У меня сарафан,
у меня босоножки без пяток
И могучая странность –
выпаривать счастье из бед.
...Да. Была горемыкой.
Но если рассмотрим остаток –
Он блажной, драгоценный
и даже прозрачный на свет.
* * *
O. K.
Что касается Кёльна, – его разбомбили дотла
Исключая Собор, потому что служил орьентиром...
Городское пространство осталось в чём мать родила
С виноватою каверзой плакать вослед бомбардирам.
Это позже сквозняк запоёт меж лесов и стропил,
Подбивая природу калькировать что потеряла.
И подумал Господь – и тяжёлой печатью скрепил
Накладные бумаги по поводу стройматерьяла.
...Накануне Крещения выпал такой снегопад,
Что похоже на бедствие. Впрочем, светло и привольно...
Начинается эра (какая?) – и птицы не спят,
А поют в витражах. Вот и всё, что касается Кёльна.
Январь 2001
* * *
С гонором послевоенной закалки
Кормит ворону старик инвалид.
А на припёке лесные фиалки
Вдруг расцвели меж строительных плит.
Горе заквасит глотком горлодёра,
Сам себе закусь, и храм, и стезя...
– Не городи по возможности вздора:
Дескать, любить это место нельзя. –
Можно! (Как дырку латает иголка).
Можно – за родину вставши горой.
...И потихоньку спуститься с пригорка,
И рассчитаться на первый-второй
(Вечно вторая, зады повторяя,
Хитросплетаю, свирепствую, вру), –
И замолчать в километре от рая,
И, как фиалка, синеть на ветру
(Слава Всевышнему, что не слукавил:
Пустошь просторнее, чем западня), –
И доживать за пределами правил,
Тут, – где моя вымирает родня.
Татьяна Бек.
Снегирь. Стихи. М.: Советский писатель, 1980.
Замысел. Стихи. М.: Советский писатель, 1987.
Смешанный лес. М.: ИВФ Антал, 1993.
Узор из трещин. Стихи недавних лет. М.: ИК Аналитика, 2002.
Дата публикации: 28.09.2010, Прочитано: 7071 раз |