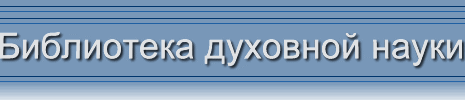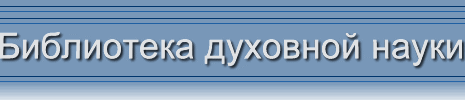Слуцкий Борис Абрамович (1919—1986) Избранное
В ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Убили самых смелых, самых лучших,
А тихие и слабые - спаслись.
По проволоке, ржавой и колючей,
Сползает плющ, карабкается ввысь.
Кукушка от зари и до зари
Кукует годы командиру взвода
И в первый раз за все четыре года
Не лжет ему, а правду говорит.
Победу я отпраздновал вчера.
И вот сегодня, в шесть часов утра
После победы и всего почета -
Пылает солнце, не жалея сил.
Над сорока мильонами могил
Восходит солнце,
не знающее счета.
* * *
Тридцатилетняя женщина,
Причем ей не 39,
А ровно 29,
Причем - не из старых девок,
Проходит по нашей улице,
А день-то какой погожий,
А день-то какой хороший,
Совсем на нее похожий.
Она - высокого роста,
Глаза - океанского цвета.
Я ей попадаюсь навстречу,
Ищу в тех глазах привета,
А вижу - долю горя,
А также дольку счастья,
Но больше всего - надежды:
Ее - четыре части.
И точно так же, как прежде,
И ровно столько, как раньше,
Нет места мне в этой надежде,
Хоть стал я толще и краше,
Ноль целых и ноль десятых
Ко мне в глазах интереса,
Хоть я - такая досада! -
Надел костюм из отреза,
Обул модельные туфли,
Надраил их до рассвета...
Увидев меня, потухли
Глаза океанского цвета.
* * *
Это - ночью написалось.
Вспоминать не буду утром!
Налетай скорее, старость.
Стану дряхлым - стану мудрым.
Гни меня, как ветер - травы,
Душу жги, суши мне тело,
Чтобы ни любви, ни славы,
Ни стихов не захотело.
Только это я и понял
Изо всех теорий счастья.
Утром этого не вспомню -
Сердце бьется слишком часто.
Сердце бьется часто, шибко,
Выкипает за края.
Поправляй мои ошибки,
Смерть разумная моя.
Разреши мои сомненья,
Заплати мои долги,
Облегчи без промедленья,
Без томленья помоги!
Помоги мне, смерть,
Ото всех болей,
Так меня отметь,
Чтобы лечь скорей,
Чтобы лечь и спать -
Никогда не встать.
* * *
Чужие люди почему-то часто
Рассказывают про свое: про счастье
И про несчастье. Про фронт и про любовь.
Я так привык все это слышать, слышать!
Я так устал, что я кричу: - Потише! -
При автобиографии любой.
Все это было. Было и прошло.
Так почему ж быльем не порастает?
Так почему ж гудит и не смолкает?
И пишет мной!
Какое ремесло
У человековеда, у поэта,
У следователя, у политрука!
Я - ухо мира! Я - его рука!
Он мне диктует. Ночью до рассвета
Я не пишу - записываю. Я
Не сочиняю - излагаю были,
А опытность досрочная моя
Твердит уныло: это было, было...
Душа людская - это содержимое
Солдатского кармана, где всегда
Одно и то же: письмецо (любимая!),
Тридцатка (деньги!) и труха-руда -
Пыль неопределенного состава.
Табак? Песок? Крошеный рафинад?
Вы, кажется, не верите? Но, право -
Поройтесь же в карманах у солдат!
Не слишком ли досрочно я узнал,
Усвоил эти старческие истины?
Сегодня вновь я вглядываюсь пристально
В карман солдата, где любовь, казна,
Война и голод оставляли крохи,
Где все истерлось в бурый порошок -
И то, чем человеку
хорошо,
И то, чем человеку
плохо.
* * *
Почему люди пьют водку?
Теплую, противную -
Полные стаканы
Пошлого запаха
И подлого вкуса?
Потому что она врывается в глотку,
Как добрый гуляка
В баптистскую молельню,
И сразу все становится лучше.
В год мы растем на 12 процентов
(Я говорю о валовой продукции.
Война замедляла рост производства).
Стакан водки дает побольше.
Все улучшается на 100 процентов.
Война не мешает росту производства,
И даже стальные протезы инвалидов
Становятся теплыми живыми ногами -
Всё - с одного стакана водки.
Почему люди держат собаку?
Шумную, нелепую, любящую мясо
Даже в эпоху карточной системы?
Почему в эпоху карточной системы
Они никогда не обидят собаку?
Потому что собака их не обидит,
Не выдаст, не донесет, не изменит,
Любое достоинство выше оценит,
Любой недостаток простит охотно
И в самую лихую годину
Лизнет языком колбасного цвета
Ваши бледные с горя щеки.
Почему люди приходят с работы,
Запирают двери на ключ и задвижку,
И пять раз подряд, семь раз подряд,
Ночь напролет и еще один разок
Слушают стертую, полуглухую,
Черную, глупую патефонную пластинку?
Слова истерлись, их не расслышишь.
Музыка? Музыка еще не истерлась.
Целую ночь одна и та же.
Та, что надо. Другой - не надо.
Почему люди уплывают в море
На два километра, на три километра,
Хватит силы - на пять километров,
Ложатся на спину и ловят звезды
(Звезды падают в соседние волны)?
Потому что под ними добрая бездна.
Потому что над ними честное небо.
А берег далек - его не видно.
О береге можно забыть, не думать.
ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ
И.Эренбургу
Лошади умеют плавать.
Но - нехорошо. Недалеко.
"Глория" по-русски значит "Слава", -
Это вам запомнится легко.
Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось - плавать просто,
Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.
ЗООПАРК НОЧЬЮ
Зоопарк, зверосад, а по правде - так зверотюрьма, -
В полумраке луны показал мне свои терема.
Остров львиного рыка
В океане трамвайного рева
Трепыхался, как рыбка
На песке у сапог рыболова.
И глухое сочувствие тихо во мне подымалось:
Величавость слонов, и печальная птичья малость,
И олень, и тюлень, и любое другое зверье
Задевали и трогали
Сердце мое.
В каждой клетке - глаза -
Словно с углями ящик...
Но проходят часы,
И все меньше горящих,
Потухает и гаснет в звериных глазах,
И несчастье
Спускается на тормозах...
Вот крылами накрыла орленка орлица,
Просто крыльями,
Просто птенца,
Просто птица.
Львица видит пустыню в печальном и спутанном сне.
Белке снится, что стынет
Она на таежной сосне.
И старинное слово: "Свобода!"
И древнее: "Воля!"
Мне запомнились снова
И снова задели до боли.
ГОВОРИТ ФОМА
Сегодня я ничему не верю:
Глазам - не верю.
Ушам - не верю.
Пощупаю - тогда, пожалуй, поверю,
Если на ощупь - все без обмана.
Мне вспоминаются хмурые немцы,
Печальные пленные 45-го года,
Стоявшие - руки по швам - на допросе.
Я спрашиваю - они отвечают.
- Вы верите Гитлеру? - Нет, не верю.
- Вы верите Герингу? - Нет, не верю.
- Вы верите Геббельсу? - О, пропаганда!
- А мне вы верите? - Минута молчанья.
- Господин комиссар, я вам не верю.
Все пропаганда. Весь мир - пропаганда.
Если бы я превратился в ребенка,
Снова учился в начальной школе,
И мне бы сказали такое:
Волга впадает в Каспийское море!
Я бы, конечно, поверил. Но прежде
Нашел бы эту самую Волку,
Спустился бы вниз по течению к морю,
Умылся его водой мутноватой
И только тогда бы, пожалуй, поверил.
Лошади едят овес и сено!
Ложь! Зимой 33-го года
Я жил на тощей, как жердь, Украине.
Лошади ели сначала солому,
Потому - худые соломенные крыши,
Потом их гнали в Харьков на свалку.
Я лично видел своими глазами
Суровых, серьезных, почти что важных
Гнедых, караковых и буланых,
Молча, неспешно бродивших по свалке.
Они ходили, потом стояли,
А после падали и долго лежали,
Умирали лошади не сразу...
Лошади едят овес и сено!
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.
Все - пропаганда. Весь мир - пропаганда.
БОЛЕЗНЬ
Досрочная ранняя старость,
Похожая на пораженье,
А кроме того - на усталость.
А также - на отраженье
Лица
в сероватой луже,
В измытой водице ванной:
Все звуки становятся глуше,
Все краски темнеют и вянут.
Куриные вялые крылья
Мотаются за спиною.
Все роли мои - вторые! -
Являются передо мною.
Мелькают, а мне - не стыдно.
А мне - все равно, все едино.
И слышно, как волосы стынут
И застывают в седины.
Я выдохся. Я - как город,
Открывший врагу ворота.
А был я - юный и гордый
Солдат своего народа.
Теперь я лежу на диване.
Теперь я хожу на вдуванья.
А мне - приказы давали.
Потом - ордена давали.
Все, как ладонью, прикрыто
Сплошной головною болью -
Разбито мое корыто.
Сижу у него сам с собою.
Так вот она, середина
Жизни.
Возраст успеха.
А мне - все равно. Все едино.
А мне - наплевать. Не к спеху.
Забыл, как спускаться с лестниц.
Не открываю ставен.
Как в комнате,
Я в болезни
Кровать и стол поставил.
И ходят в квартиру нашу
Дамы второго разряда,
И я сочиняю кашу
Из пшенного концентрата.
И я не читаю газеты,
А книги - до середины.
Но мне наплевать на это.
Мне все равно. Все едино.
М.В. КУЛЬЧИЦКИЙ
Одни верны России
потому-то,
Другие же верны ей
оттого-то,
А он - не думал, как и почему.
Она - его поденная работа.
Она - его хорошая минута.
Она была отечеством ему.
Его кормили.
Но кормили - плохо.
Его хвалили.
Но хвалили - тихо.
Ему давали славу.
Но - едва.
Но с первого мальчишеского вздоха
До смертного
обдуманного
крика
Поэт искал
не славу,
а слова.
Слова, слова.
Он знал одну награду:
В том,
чтоб словами своего народа
Великое и новое назвать.
Есть кони для войны
и для парада.
В литературе
тоже есть породы.
Поэтому я думаю:
не надо
Об этой смерти слишком горевать.
Я не жалею, что его убили.
Жалею, что его убили рано.
Не в третьей мировой,
а во второй.
Рожденный пасть
на скалы океана,
Он занесен континентальной пылью
И хмуро спит
в своей глуши степной.
* * *
Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывать другому.
Как ни посмотришь, сказано умно -
Ошибок мало, а достоинств много.
А с точки зренья господа-то бога?
Господь, он скажет: "Все равно говно!"
Господ не любит умных и ученых,
Предпочитает тихих дураков,
Не уважает новообращенных
И с любопытством чтит еретиков.
ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы,
что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья -
Наши сладенькие ямбы,
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне.
Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие
степенно
Отступает в логарифмы.
* * *
Подумайте, что звали высшей мерой
Лет двадцать или двадцать пять подряд.
Добро? Любовь?
Нет. Свет рассвета серый
И звук расстрела.
Мы будем мерить выше этой высшей,
А мера будет лучше и верней.
А для зари, над городом нависшей,
Употребленье лучшее найдем.
* * *
Двадцатые годы, когда все были
Двадцатилетними, молодыми,
Скрылись в хронологическом дыме.
В тридцатые годы все повзрослели -
Те, которые уцелели.
Потом настали сороковые.
Всех уцелевших на фронт послали,
Белы снега над ними постлали.
Кое-кто остался все же,
Кое-кто пережил лихолетье.
В пятидесятых годах столетья,
Самых лучших, мы отдохнули.
Спины отчасти разогнули,
Головы подняли отчасти.
Не знали, что это и есть счастье,
Были нервны и недовольны,
По временам вспоминали войны
И то, что было перед войною.
Мы сравнивали это с новизною,
Ища в старине доходы и льготы.
Не зная, что в будущем, как в засаде,
Нас ждут в нетерпении и досаде
Грозные шестидесятые годы.
* * *
Начинается длинная, как мировая война,
Начинается гордая, как лебединая стая,
Начинается темная, словно кхмерские письмена,
Как письмо от родителей, ясная и простая
Деятельность.
В школе это не учат,
В книгах об этом не пишут,
Этим только мучат,
Этим только дышат:
Стихами.
Гул, возникший в двенадцать и даже в одиннадцать лет,
Не стихает, не смолкает, не умолкает.
Ты - актер. На тебя взят бессрочный билет.
Публика целую жизнь не отпускает
Со сцены.
Ты - строитель. Ты выстроишь - люди живут
И клянут, обнаружив твои недоделки.
Ты - шарманщик. Из окон тебя позовут,
И крути и крутись, словно рыжая белка
В колесе.
Из профессии этой, как с должности председателя КГБ
Много десятилетий не уходили живыми.
Ты - труба. И судьба исполняет свое на тебе.
На важнейших событьях ты ставишь фамилию, имя,
А потом тебя забывают.
* * *
Счастье - это круг. И человек
Медленно, как часовая стрелка,
Движется к концу, то есть к началу,
Движется по кругу, то есть в детство,
В розовую лысину младенца,
В резвую дошкольную проворность,
В доброту, веселость, даже глупость.
А несчастье - это острый угол.
Часовая стрелка - стоп на месте!
А минутная - спеши сомкнуться,
Загоняя человека в угол.
Вместо поздней лысины несчастье
Выбирает ранние седины
И тихонько ковыряет дырки
В поясе - одну, другую,
Третью, ничего не ожидая,
Зная все.
Несчастье - это знанье.
* * *
Усталость проходит за воскресенье,
Только не вся. Кусок остается.
Он проходит за летний отпуск.
Только не весь. Остается кусочек.
Старость шьет из этих кусков
Большое лоскутное одеяло,
Которое светит, но не греет.
Скорее рано, чем поздно, придется
Закутаться в него с головою.
Уволиться, как говорится, вчистую.
Без пенсии, но с деревянным мундиром.
Уехать верхом на двух лопатах
В общеизвестный дом инвалидов,
Стоящий, вернее сказать, лежащий
Ровно в метре от беспокойства,
От утомления, труда, заботы
И всяких прочих синонимов жизни.
КЛЮЧ
У меня была комната с отдельным ходом,
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
В эту комнату знакомых водил.
Мои товарищи жили с тещами
И с женами, похожими на этих тещ, -
Слишком толстыми, слишком тощими,
Усталыми, привычными, как дождь.
Каждый год старея на год,
Рожая детей (сыновей, дочерей),
Жены становились символами тягот,
Статуями нехваток и очередей.
Мои товарищи любили жен.
Они вопрошали все чаще и чаще:
- Чего ты не женишься? Эх ты, пижон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?
Мои товарищи не любили жен.
Им нравились девушки с молодыми руками,
С глазами,
в которые,
раз погружен,
Падаешь,
падаешь,
словно камень.
А я был брезглив (вы, конечно, помните),
Но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они просили, а я - давал.
КАК МОГ
Начну по порядку описывать мир,
Подробно, как будто в старинном учебнике,
Учебнике или решебнике,
Залистанном до окончательных дыр.
Начну не с предмета и метода, как
Положено в книгах новейшей эпохи, -
Рассыплю сперва по-старинному вздохи
О том, что не мастер я и не мастак,
Но что уговоры друзей и родных
Подвигли на переложение это.
Пишу, как умею, Кастальский родник
Оставив удачнику и поэту.
Но прежде, чем карандаши очиню,
Письмо-посвящение я сочиню,
Поскольку когда же и где же видели
Старинную книгу без покровителя?
Не к здравому смыслу, сухому рассудку,
А к разуму я обращусь и уму.
И всюду к словам пририсую рисунки,
А схемы и чертежи - ни к чему.
И если бумаги мне хватит
и бог
Поможет,
и если позволят года мне,
Дострою свой дом
до последнего камня
И скромно закончу словами:
"Как мог".
* * *
И положительный герой,
И отрицательный подлец -
Раздуй обоих их горой -
Мне надоели наконец.
Хочу описывать зверей,
Хочу живописать дубы,
Не ведать и не знать дабы,
Еврей сей дуб иль не еврей,
Он прогрессист иль идиот,
Космополит иль патриот,
По директивам он растет
Или к свободе всех зовет.
Зверь это зверь. Дверь это дверь.
Длину и ширину измерь,
Потом хоть десять раз проверь
И все равно: дверь - это дверь.
А - человек?
Хоть мерь, хоть весь,
Хоть сто анкет с него пиши,
Казалось, здесь он.
Нет, не здесь.
Был здесь и нету ни души.
* * *
Человечество делится на две команды.
На команду "смирно"
И команду "вольно".
Никакие судьи и военкоматы,
Никакие четырехлетние войны
Не перегонят меня, не перебросят
Из команды вольных
В команду смирных.
Уже пробивается третья проседь
И молодость подорвалась на минах,
А я, как прежде, отставил ногу
И вольно, словно в юные годы,
Требую у жизни совсем немного -
Только свободы.
* * *
В свободное от работы время
Желаю читать то, что желаю,
А то, что не желаю, - не буду.
Свобода чтения - в нашем возрасте
Самая лучшая свобода.
Она важнее свободы собраний,
Необходимой для молодежи,
И свободы шествий,
Необходимой для променада,
И даже свободы мысли,
Которую все равно не отнимешь
У всех, кто
способен мыслить.
* * *
Потомки разберутся, но потомкам
Придется, как студентам - по потокам
Сперва разбиться,
после - расстараться,
Чтоб разобраться.
Потомки по потокам разобьются,
Внимательны, умны, неотвратимы,
Потрудятся, но все же разберутся
Во всем, что мы наворотили.
Давайте же темнить, мутить и путать,
Концы давайте в воду прятать,
Чтоб им потеть, покудова распутать,
Не сразу взлезть,
Сначала падать.
Давайте будем, будем, будем
Все, что не нужно или же не надо.
И ни за что не будем, нет, не будем
Все то, что нужно, правильно и надо.
* * *
Завяжи меня узелком на платке.
Подержи меня в крепкой руке.
Положи меня в темь, в тишину и в тень,
На худой конец и про черный день,
Я - ржавый гвоздь, что идет на гроба.
Я сгожусь судьбине, а не судьбе.
Покуда обильны твои хлеба,
Зачем я тебе?
ПРОЗАИКИ
Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александру Лебеденко
Когда русская проза пошла в лагеря -
в землекопы,
а кто половчей - в лекаря,
в дровосеки, а кто потолковей - в актеры,
в парикмахеры
или в шоферы, -
вы немедля забыли свое ремесло:
прозой разве утешишься в горе?
Словно утлые щепки,
вас влекло и несло,
вас качало поэзии море.
По утрам, до поверки, смирны и тихи,
вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
вы лепили стихи.
Весь барак, ках дурак, бормотал, подбирал
рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
то стремился излиться в тоске.
Ямб рождался из мерного боя лопат,
словно уголь, он в шахтах копался,
точно так же на фронте из шага солдат
он рождался и в строфы слагался.
А хорей вам за сахар заказывал вор,
чтобы песня была потягучей,
чтобы длинной была, как ночной разговор,
как Печора и Лена - тягучей.
А поэты вам в этом помочь не могли,
потому что поэты до шахт не дошли.
Дата публикации: 30.09.2010, Прочитано: 6495 раз |