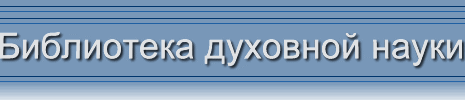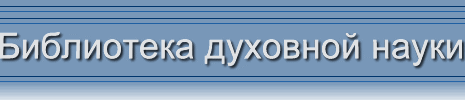Книги. GA 001-028
Рудольф Штейнер
ЗАГАДКИ ФИЛОСОФИИ
представленные в очерке ее истории
Том 2
Перевод с немецкого
Е. Хорин, канд. фил. наук.
А.Демидов
редакция А. Демидов.
Перевод с издания 1918 г.
СОДЕРЖАНИЕ
второго тома
Вводные замечания к новому изданию
Борьба за дух
Дарвинизм и мировоззрение
Мир иллюзий
Отзвуки кантианского образа мыслей
Мировоззрения научной фактичности
Современные идеалистические мировоззрения
Современный человек и его мировоззрение
Эскизный обзор антропософии
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ
Попытка описания философской духовной жизни с середины XIX в. до наших дней, предпринятая в этом втором томе "Загадок философии" не могла иметь ту же конфигурацию, что и обзор предшествующей работы мыслителей, приведенный в первом томе. - Этот обзор содержал весьма узкий круг философских вопросов. Последние шестьдесят лет явились той эпохой, когда, исходя из различных точек зрения, естественнонаучный образ мыслей намеренно сотрясал почву, на которой прежде базировалась философия. В это время возникает воззрение, будто бы результаты естественнонаучного исследования проливают тот свет на вопросы о существе человека, об его отношении к миру и на другие загадки бытия, который прежде искали в философской духовной работе. Многие мыслители, которые теперь намеревались служить философии, старались построить метод своего исследования по образцу естественной науки; другие формировали основы своего мировоззрения не на манер старых философских мыслительных процедур, но заимствовали их из воззрений естественнонаучного исследования, биологии, физиологии. Те же, кто хотел отстоять независимость философии, полагали, что поступают правильно, подвергая результаты естественной науки основательному рассмотрению, чтобы препятствовать ее проникновению в философию. Вот почему для отображения философской жизни этой эпохи необходимо обратиться к воззрениям, которые пришли в мировоззрение из естествознания. Значение этих воззрений выяснится тотчас, как только мы рассмотрим научные подосновы, из которых они вытекают, когда попадем в атмосферу научного образа мыслей, в которой они развиваются. Эти отношения выражены в содержании данной книги так, как если бы ее намерением было изображение общих естественнонаучных идей, а не идей философских работ. Может возникнуть справедливое мнение, что благодаря такому способу изображения становится очевидным, какое огромное влияние оказало естествознание на философскую жизнь современности.
Тот, чей образ мыслей согласуется с представлениями о развитии философской жизни, как было оно описано в введении "К ориентировке в руководящих линиях изложения" в томе первом, развитии, обоснование которому мы будем пытаться дать далее, тот сможет увидеть в таком характерном соотношении между философией и естествознанием необходимую фазу этого развития. В течение столетий, с момента развития греческой философии эта эволюция стремилась привести человеческую душу к переживанию внутренних сил её существа. С этим своим внутренним переживанием душа, ориентированная на познание внешней природы, ощущала себя все более и более отчужденною от мира. Возникло воззрение на природу, ориентированное исключительно на наблюдение внешнего мира и не чувствовавшее потребности вобрать в свою картину мира и то, что переживает душа в своем внутреннем мире. Это воззрение посчитало несправедливым рисовать такую картину мира так, чтобы в ней равным образом присутствовали как внутренние переживания человеческой души, так и результаты естественнонаучных исследований. Тем самым обозначено то положение, в котором оказалась философия во второй половине XIX века и в котором до сих пор находятся многие мыслительные направления современности. Обозначенное здесь, не следовало бы искусственно вносить в рассмотрение философии данной эпохи. Оно само вычитывается из фактов, на которые такое рассмотрение направлено. Во втором томе данной книги такая попытка делается. Благодаря тому, что эта попытка была предпринята, возникла необходимость написания заключительной главы - "Краткий очерк антропософии". Может показаться, что такой очерк целиком выпадает из всего содержания книги. И все-таки еще в Предисловии к первому тому книги говорилось о том, что целью данного изложения "…было не только дать краткий очерк истории философских вопросов, но и говорить об этих вопросах, как и о попытках их разрешения посредством их исторического рассмотрения…" (т 1 стр. 11). Рассмотрение, нашедшее выражение в этой книге, пытается показать, что многие направления в философии ориентированы на то, чтобы во внутреннем переживании человеческой души найти нечто, проявляющееся так, что его место в обновленной картине мира не могло быть оспорено естествознанием. И поскольку философским воззрением автора является то, что в заключительной главе говорится о душевных переживаниях, способных увенчать успехом поиски новой философии, он счел себя вправе присоединить к своему изложению эту последнюю главу. Ему кажется установленным, что основной характер и исторический облик этой философии состоит в том, чтобы в своем поиске не ограничиваться собственным направлением к искомому; по мнению автора, это направление должно привести к мировоззрению, кратко изложенному в конце данной книги. Это мировоззрение хочет стать действительной "наукой о духе". Кто находит это справедливым, тот будет считать, что такое мировоззрение дает ответ на вопросы современной философии, хотя этот ответ высказывает не она сама. Если это так, то сказанное в заключительной главе проливает свет и на историческое место этой философии.
Автор не считает, что тот, кто разделяет сказанное в заключительной главе, должен был бы усвоить убеждение в необходимости такого мировоззрения, которое призвано заменить философию чем-то таким, что уже не может расцениваться как философия. Взгляд, излагаемый в книге, скорее состоит в том, что философия, если она желает понять самое себя, должна со своими движущими духовными силами примкнуть к такому душевному переживанию, которое, хотя и является плодом её работы, но вырастает за её пределы. Тем самым философия сохраняет своё значение для каждого человека, который, благодаря своему образу мыслей, должен требовать надежной основы для результатов этого душевного переживания. Тот, у кого убежденность (в истинности) этих результатов создается на основе естественного чувства истины, может с правом чувствовать себя на прочной основе, даже если он и не уделяет никакого внимания философскому обоснованию этих результатов. Тот же, кто ищет научного оправдания мировоззрения, речь о котором идет в конце книги, должен придерживаться философского обоснования.
То, что этот путь, будучи пройден до конца, ведет к переживанию в духовном мире, то, что душа, благодаря такому переживанию приходит к осознанию своей духовной сущности, независимой от ее переживания и познания (достигаемых) посредством чувственно-воспринимаемого мира - это и есть то, на что пытается указать содержание данной книги. Автору не хотелось бы, в наблюдение философской жизни привносить такие мысли в качестве предвзятого мнения. Он пытался непредвзято отыскать такое воззрение, которое высказывается из самой жизни. Он, по крайней мере, стремился действовать таким образом. Он полагает, что эта мысль опирается в книге на подобающее ей основание благодаря тому, что естественнонаучный образ мыслей во многих местах книги подается так, как если бы он излагался одним из его приверженцев. Испытать в полной мере оправданность какого-либо воззрения, можно лишь целиком переместившись в него. И именно это перенесение себя в какое-либо мировоззрение дает человеческой душе наиболее реальную возможность по выходе из него придти к такому образу мыслей (представлений), которое соответствует областям, тем мировоззрением не охваченным.
* * *
Этот второй том "Загадок философии" был допечатан до 206 стр. (середина главы "Современный человек и его мировоззрение" - примеч. перевод.), когда разразилась великая война, которую ныне переживает человечество. Завершение книги происходило во время этих событий. Тем самым я хочу всего лишь отметить, что в то время, когда последние мысли из содержания этой книги проходили через мой внутренний мир, душа моя была глубоко затронута и озабочена внешним миром.
Рудольф Штейнер
Берлин 1 сентября 1914 г.
БОРЬБА ЗА ДУХ
Гегель с его мыслительным построением чувствовал себя у цели, к которой стремилась мировоззренческая эволюция, с тех пор как она пыталась одолеть загадочные вопросы бытия, оставаясь внутри мыслительного переживания. С этим чувством в конце своей "Энциклопедии философских наук" он написал следующие слова: "Понятие философия - есть мыслящая себя идея, знающая истина…Наука, таким образом, возвращается к своему началу, и логическое - её результат, как духовное, которое подает себя как в себе и для себя сущая истина".
Переживать самого себя в мыслях, должно давать - по Гегелю - человеческой душе сознание нахождения у своего истинного источника. И когда она черпает из него и наполняется из него мыслями, она живет в собственном своем существе и одновременно в существе природы. Ибо эта природа является точно таким же откровением мысли, как и сама душа. Через явления природы мыслительный мир смотрит на душу; и душа постигает в себе творческую мыслительную силу, так что она сознает себя в единстве со всем мировым свершением. Душа видит, как её узкое самосознание расширяется благодаря тому, что в ней мир, познавая, созерцает самого себя. Тем самым душа перестает рассматривать себя как то, что постигается в преходящем чувственном теле между рождением и смертью; в ней знает себя непреходящий, не связанный никакими границами чувственного бытия дух, и она знает себя в неразрывном единстве с этим духом.
Нужно перенестись в человеческую душу, которая способна пройти в гегелевском направлении мышления столь далеко, что она с непосредственностью самого Гегеля переживает присутствие мыслей в сознании; тогда можно ощутить, как для такой души получают вполне удовлетворительное освещение загадки, в течение столетий стоящие перед человечеством. Такое удовлетворение живет, например, в многочисленных работах гегельянца Карла Розенкранца. Кто дает на себя воздействовать этим его работам ("Система философии" 1850; "Психология" 1844; "Критическое объяснение гегелевской философии" 1851 и др.), тот увидит, что имеет дело с личностью, которая полагает найти в гегелевских идеях то, что может составить удовлетворительное познавательное отношение человеческой души к миру. Розенкранц представляет собой значительную в этом отношении фигуру, ибо он не слепой поклонник Гегеля, но в нем живет дух, который сознает, что в гегелевской позиции по отношению к миру и к человеку заложена возможность здоровой основы для мировоззрения.
Что должен ощущать подобный дух по отношению к этой основе? - В течение столетий, с момента рождения мысли в Древней Греции в сфере философского исследования, те загадки бытия, с которыми, в сущности, сталкивается каждая человеческая душа, выкристаллизовались в некоторое количество главных вопросов. В новое время из числа таковых в центре внимания философского размышления оказались вопросы о значении, ценности и границах познания. В каком отношении к действительному миру находится то, что может воспринимать, представлять, мыслить человек? Могут ли эти восприятие и мышление дать такое знание, которое может объяснить человеку все то, что он хочет понять? Для того, кто мыслит в духе Гегеля, ответ на этот вопрос дается посредством осознания природы мышления. Такой человек полагает, что когда он овладевает мышлением, он переживает созидающий мировой дух. В этом слиянии с созидающими мыслями чувствует он ценность и истинное значение познания. Ему незачем спрашивать: каково значение познания? Ибо, познавая, он переживает это значение. Таким образом, каждый гегельянец видит себя в непримиримой оппозиции ко всякому кантианству. Посмотрим как сам Гегель протестовал против манеры Канта исследовать познание перед тем, как познавать: "Главная точка зрения критической философии состоит в том, что, прежде чем исследовать Бога, сущность вещей ит.п., следует сначала подвергнуть исследованию самую способность познания - сумеет ли она подвигнуться на это; сначала, мол, надо обследовать инструмент, прежде чем приступать к работе с ним; если он окажется неподходящим, то все усилия окажутся напрасны. Мысль эта кажется настолько правдоподобной, что всюду пробуждает величайшее восхищение и согласие, и познание, теряя интерес к предметам, коими оно занимается, возвращается к самому себе. И все же, если мы не хотим обманывать себя словами, можно легко увидеть, что о других инструментах мы можем, исследовав их, выносить суждение обычным образом, помимо той работы, для которой они предназначены. Но познание нельзя исследовать иначе, как в процессе познания: в случае так называемых инструментов их исследование и означает познание их.
Хотеть познания, прежде чем познавать, столь же нелепо, как мудрое намерение одного схоласта сначала научиться плавать, а потом решиться прыгать в воду". Для Гегеля речь идет о том, что душа переживает себя, наполняясь мировыми мыслями. Так вырастает она за пределы обыденного бытия; она в некотором смысле становится сосудом, в котором сознательно постигают себя живущие в мышлении мировые мысли. Однако она чувствует себя не только сосудом этого мирового духа, но знает о своем единстве с ним. Итак, исследовать сущность познания в смысле Гегеля нельзя; надо возноситься к переживанию этой сущности и пребывать тем самым непосредственно в познании. Если пребываешь в нем, то обладаешь им, так что нет необходимости спрашивать о его значении: если же еще не находишься внутри него, то не имеешь и способности исследовать его. Кантовская философия несовместима с мировоззрением Гегеля. Ибо чтобы ответить на вопрос о том, как возможно познание, душа должна сначала осуществить это познание, но для этого она не должна начинать с сомнения в его возможности.
В некотором смысле гегелевская философия склоняется к тому, чтобы дать душе вырасти за свои пределы и достичь той высоты, где она сливается с миром в единство. С рождением мышления в греческой философии душа отделяется от мира. Она учится переживанию своей обособленности по отношению к миру. В этой обособленности она открывает себя с господствующими в ней мыслями. Гегель хотел довести это переживание мышления до предельной высоты. В наивысшем переживании мыслей он одновременно находит мировой принцип. Таки образом душа совершает кругооборот, в котором она сначала отделяется от мира, чтобы найти мысли. Она чувствует свою обособленность от мира до тех пор, пока она познает мысли только как мысли. Она чувствует себя снова соединенной с миром, как только она открывает в мыслях первоисточник мира; и кругооборот замыкается. Гегель мог бы сказать: "Наука, таким образом, приходит назад к своему началу".
С данной точки зрения другие главные вопросы человеческого познания получают такое освещение, которое позволяет полагать, что все бытие можно обозреть в неком неразрывном мировоззрении. Как второй основной вопрос можно рассматривать вопрос о божественном как о мировой основе. Для Гегеля то возвышение души, посредством которого мировая мысль познает себе как живущую в ней, является в то же время единением с божественной основой мира. Так что в смысле Гегеля нельзя задать вопрос: что такое божественная основа мира? Или: как относится к ней человек? Можно только сказать: если душа, познавая, действительно переживает истину, то она погружается в эту основу мира.
Третьим основным вопросом в указанном смысле является вопрос космологический; это вопрос о внутренней сущности внешнего мира. По Гегелю такую сущность (Wesen) следует искать только в самих мыслях. Если душа возвысится до того, чтобы переживать в себе идеи, то в своем самопереживании она обретает ту форму мысли, которую она сможет распознать снова, наблюдая процессы и существа (Wesenheiten) внешнего мира. Так душа в своем переживании мышления может, например, найти нечто такое, о чем она знает непосредственно: это сущность света. Если затем она глазами взглянет на природу, то во внешнем свете она видит откровение мыслительной сущности света.
Так для Гегеля весь мир растворяется в мыслительной сущности. Природа плавает в мыслительном космосе как застывшая часть последнего; и человеческая душа есть мысль в этом мыслительном мире.
Четвертый основной вопрос философии - о сущности душевного и об его судьбах; кажется, что в гегелевском смысле, благодаря истинному продвижению мыслительного переживания, на него можно ответить удовлетворительно. Сначала душа находит, что она связана с природой; в этой связи она еще не познает свое истинное существо. Она высвобождается из этого природного бытия, затем находит себя отделенной в мыслях, но наконец, видит, что вместе с истинным существом природы она постигает и свое собственное существо, как существо живого духа, в котором она живет и ткет как член последнего.
Всякий материализм кажется, таким образом, преодоленным. Сама материя является лишь откровением духа. Человеческая душа может чувствовать себя становящейся и сущей в духовном универсуме.
Именно здесь, в вопросе о душе, неудовлетворительность гегелевского мировоззрения проявляется с наибольшей отчетливостью. При взгляде на это мировоззрение душа человека должна спросить себя: могу ли я действительно найти себя в том, что в качестве всеохватывающего мирового мыслительного построения выставляет Гегель? Как было показано, всякое новое мировоззрение искало такую картину мира, в которой человеческая душа с ее внутренней сущностью занимала бы подобающее ей место. Гегель представляет себе весь мир как мысль: в мысли и душа имеет свое сверхчувственное мыслебытие. Но может ли душа вполне удовлетвориться тем, что она как мировая мысль содержится во всеобщем мыслительном мире? Этот вопрос всплывает у всех тех, кто в середине XIX в. почувствовал себя в оппозиции к импульсам гегелевской философии.
Какие же загадки души вызывают затруднения? Это те, к разрешению которых должна стремиться душа, для того, чтобы обрести внутреннюю уверенность и устойчивость в жизни. Прежде всего, это вопрос о том, чем является человеческая душа по своему наиболее внутреннему существу? Образует ли она единство с телесным бытием, и прекращаются ли её проявления вместе со смертью тела, подобно тому, как останавливается стрелки на циферблате сломанных часов? Или же душа является самостоятельным по отношению к телу существом, имеющим жизнь и значение в ином мире, нежели тот, в котором возникает и угасает тело? Но тогда же, встаёт и другой вопрос: как достигает человек познания этого иного мира? Только ответив на этот вопрос, может человек надеяться, пролить также свет и на вопросы жизни: почему я подвержен той или иной судьбе? Откуда происходит страдание? Где источник нравственности?
Удовлетворительным может быть только такое мировоззрение, которое указывает на мир, из которого приходит ответ на поставленные здесь вопросы. И которое в то же время доказывает своё право на то, чтобы
Гегель дал некий мир мыслей. Если этот мир должен быть все исчерпывающим космосом, то по отношению к нему душа кажется вынужденной рассматривать себя в своём самом внутреннем существе как мысль. Если отнестись к этому космосу мысли серьёзно, то по отношению к нему индивидуальная душевная жизнь человека оказывается расплывчатой. Надо отказаться от её объяснения и понимания и сказать: значение в душе имеет не её индивидуальное переживание, а её пребывание во всеобщем мыслительном мире. Так, в сущности, и говорит гегелевское мировоззрение. Чтобы понять его в данном отношении, сравним его с тем, что представлялось Лессингу, когда он обдумывал свое "Воспитание человеческого рода". Он ставил вопрос о значении отдельной человеческой души за пределами той жизни, которая заключена между рождением и смертью. Следуя этой мысли Лессинга, можно говорить о том, что после физической смерти душа имеет некую форму бытия в том мире, который находится вне того мира, где человек живет, мыслит и воспринимает в теле, и что, по прошествии соответствующего периода времени, подобное чисто духовное переживание переходит в новую земную жизнь. Тем самым указывается на мир, с которым человеческая душа связана как отдельное индивидуальное существо. И на этот мир смотрит она в поисках своего истинного существа. Мысля себя изъятой из своей связи с телесным бытием, душа мыслит себя в этом мире. Для Гегеля, напротив, жизнь души с отсечением всего индивидуального стремится во всеобщий мыслительный процесс, - сначала исторического становления, а затем -всеобщего духовно-мыслительного мирового свершения. По его представлению, загадка души разрешается тотчас, как только отвлекаешься от всего ее индивидуального своеобразия. Действителен лишь исторический процесс, а не отдельная душа. Вот что написано Гегелем в конце "Философии истории": "Мы рассматривали единственно дальнейшее развитие понятия и отклонили соблазнительную возможность более подробно описать счастье, периоды расцвета народов, красоту и величие индивидуумов, их судеб в страдании и радости. Философия имеет дело лишь с блеском идеи, которая зеркально отражается в мировой истории. От пресыщения движениями непосредственных страстей в действительности философия обращается к рассмотрению: её интерес состоит в познании хода эволюции осуществляющей себя идеи".
Рассмотрим учение Гегеля о душе. Мы найдем, что в нем описывается, как душа развивается внутри тела в качестве "природной души", как она развертывает сознание, самосознание, разум; как она затем во внешнем мире реализует идеи права, нравственности, государства, как в мировой истории она созерцает длящуюся жизнь того, что она мыслит как идеи, как она переживает эти идеи в качестве искусства, в качестве религии, для того, чтобы затем в единении с мыслящей истиной созерцать самое себя в живом и деятельном всеобщем духе.
То, что мир, в который видит себя поставленным человек, целиком является духом, то, что все материальное бытие тоже есть только откровенье духа, - должно быть очевидно для всякого, кто чувствует по Гегелю. Отыскивая такой дух такой человек (гегельянец), обретает его, следуя своей сути, как деятельную мысль, как живую творящую идею. Перед ним теперь стоит душа и спрашивает себя: могу ли я рассматривать себя в качестве существа, полностью исчерпывающегося в мыслительном бытии? Можно усматривать неоспоримое величие гегелевского мировоззрения в том, что душа, возвысившаяся до настоящих мыслей, чувствует себя исчезнувшей в творящем элементе бытия. Чувствовать глубокое удовлетворение от подобного отношения к миру могут только те личности, которые более или менее далеко проследовали за развитием гегелевской мысли.
Как позволить себе жить с мыслью? Это великий загадочный вопрос новой мировоззренческой эволюции. Он возник из развития того, что выступило в греческой философии вследствие оживления мысли и возникшему благодаря ему высвобождению души из внешнего бытия. Гегель предпринял попытку воздвигнуть перед душой целый свод мыслительного переживания, показать ей все то, что как мысль она может извлечь из своих глубин. По отношению к этому мыслительному переживанию он требует от души: в этом переживании опознай себя в своей глубочайшей сущности, почувствуй себя в нем как в своей глубочайшей основе.
Этим гегелевским требованием человеческая душа приводится к решающему пункту в познании ее собственного существа. Куда должна она обратиться, если она пришла к чистым мыслям и не желает на этом останавливаться? От восприятий, от чувствования, от воления она может придти к мыслям и спросить: что получается, когда я мыслю о восприятии, чувствовании, волении? От мышления идти дальше некуда; она должна мыслить все снова и снова. Кто прослеживает мировоззренческую эволюцию до эпохи Гегеля, тот может констатировать, что он довел импульсы этой эволюции до такой точки, выйти за которую она не в состоянии, если сохранит то же характер, который был присущ ей до сих пор. Кто воспринимает подобные вещи, то может спросить себя: если мышление, - в смысле гегельянства - ведет сначала к развертыванию перед душой мыслительной картины как картины мира, означает ли это, что мышление развило из себя все то, что живо в нем заключено? Ведь может оказаться, что в мышлении заключается нечто большее, чем просто мышление. Рассмотрим растение, которое от корня, через стебель и листья развивается до цветка и плода. Можно было бы завершить жизнь данного растения, изъяв его семена из плода и, использовав их, например, как пищу человека. Но можно было бы поместить семя растения в подходящие условия, так, чтобы образовалось новое растение.
Кто направляет взор на смысл гегелевской философии, может увидеть, что в ней, подобно растению развёртывается тот образ, который составляет себе о мире человек. Но такое развёртывание доводится до семени, до мысли, но затем обрывается, как жизнь растения, чьё семя не развивается дальше в смысле растительной жизни, но преобразуется в нечто такое, что этой жизни противостоит, становясь пищей человека. На деле: как только Гегель приходит к мысли, он не продолжает путь, которым следовал до этого момента. Он исходит из чувственного восприятия и развивает в человеческой душе всё, что, в конце концов, приводит к мысли. На ней он останавливается и показывает на ней, как может она послужить для объяснения мировых процессов и сущностей. Конечно, мысль может пригодиться для этого, точно так же как семя растения может стать пищей человека. Но разве из мышления не может развиться нечто живое? Разве не лишается мысль своей собственной жизни, будучи употреблена так, как употребляет её Гегель, подобно тому, как лишается собственной жизни семя растения, будучи употреблено в пищу человеком? В каком свете должна была бы предстать гегелевская философия, если бы оказалось истиной, что мысль, хотя и может служить для прояснения, объяснения мировых процессов, - подобно семени растения в качестве пищи, - но делает это лишь посредством того, что она оказывается лишённой своей дальнейшей вегетации, дальнейшего роста. Правда из семени растения может родиться растение только того же самого вида. Однако мысль, как семя познания, могла бы произвести, - при условии продолжения её живого развития, - нечто совершенно новое по отношению к той картине мира, из которой она развилась. Как в растительной жизни царит повторение, так в познавательной жизни могло бы иметь место возвышение. Разве нельзя помыслить, что любое применение мышления для объяснения мира в смысле внешней науки является таким его использованием, которое следует всего лишь по побочной линии его развития, подобно тому, как использование семени растения в пищу есть всего лишь побочный путь, по отношению к ходу самого непрерывного развития? Само собой разумеется, о таких умозаключениях можно было бы сказать, что они, якобы, проистекают из чистого произвола и не несут конструктивных возможностей. Точно так же, само собой разумеется, что можно было бы возразить таким образом: там, где мысль в указанном смысле проводится дальше, начинается царство произвольных фантастических представлений. Но всё же, наблюдателю исторического развертывания мировоззренческой жизни в XIX в. дело может представиться иначе. Тот способ, которым Гегель постигал мысли, в действительности приводит мировоззренческую эволюцию к мёртвой точке. Чувствуется, что относительно мысли дело доведено здесь до крайности; когда же хотят перевести мысль, как её постигают, в непосредственную познавательную жизнь, она отказывает; страстно мечтают по той жизни, которая могла бы возникнуть из достигнутого, благодаря ей, мировоззрения. Фридрих Теодор Фишер в середине столетия начал, писать свою "Эстетику" в духе гегелевской философии. Он создал её как монументальное произведение. После её завершения он сам стал её остроумнейшим критиком. Отыскивая подспудную причину столь странного процесса, обнаруживаешь следующее: Фишер увидел, что, пронизав свой труд гегелевской мыслью, он внес в него тот элемент, который, будучи вырван из своих жизненных условий, стал мёртвым. Так семя растения, будучи вырвано из своего вегетативного развития, действует как мёртвое. Если рассматривать гегелевское мировоззрение в данном свете, открывается своеобразная перспектива. Мысли могло бы потребоваться, чтобы её рассматривали как живое семя, и при известных условиях вели её к раскрытию в душе, ради того, чтобы она, выйдя за пределы гегелевской картины мира, вела к такому мировоззрению, в котором душа впервые могла бы познавать себя в соответствие со своей сущностью; мировоззрению, с помощью которого душа могла бы впервые чувствовать себя перемещённой во внешний мир. Гегель подвигнул душу столь далеко, что она может переживать себя посредством мысли; выход за пределы Гегеля ведёт к тому, что в душе мысль перерастает самоё себя и врастает в духовный мир. Гегель понимал, как душа из самой себя расколдовывает мысль и в мысли переживает себя. Он поставил перед потомками задачу: с живой мыслью, - как в истинно духовном мире, - найти существо души, которое в чистой мысли не может быть пережито во всей своей полноте.
В предшествующем изложении было показано, как новая мировоззренческая эволюция стремилась от восприятия мысли к переживанию мысли; в мировоззрении Гегеля мир оказывается стоящим перед душой как само себя создавшее мыслительное переживание: тем не менее, кажется, что эволюция указывает на дальнейшее поступательное движение. Мысль не должна застывать как мысль: она не должна просто мыслиться, она должна пробудиться к некой более высокой жизни.
Сколь произвольным может показаться все это на первый взгляд, столь же необходимым должно это открыться углублённому рассмотрению мировоззренческой эволюции девятнадцатого века. При таком рассмотрении видно, как в глубинах исторической эволюции подспудно действуют требования эпохи и как устремления людей представляют собой попытки удовлетворить таким требованиям. Новое время противостало естественнонаучной картине мира. При сохранении её в силе должны были найтись представления о душевной жизни, противостоящие этой картине. Всё развитие через Декарта, Спинозу, Лейбница, Локка вплоть до Гегеля являлось борьбой за эти представления. Гегель довёл эту борьбу до некоторого завершения. То как он представлял себе мир в качестве мысли, повсюду в качестве предпосылок имелось у его предшественников; он принял смелое для мыслителя решение совместить все мировоззренческие представления во всеобъемлющей мыслительной картине. Благодаря ему эпоха почерпнула стремительную силу прогрессивных импульсов. Вышеуказанное - требование почувствовать жизнь мыслей - стало ощущаться подсознательно: это отягчало души в середине XIX века. Сомневались в исполнимости этого требование, но, всё же такое сомнение на доводилось до сознания. Так на философском поприще выступает немощь продвигаться вперед. Продуктивность философских идей иссякает. Они должны были бы продвигаться в означенном направлении, однако прежде казалось необходимым обдумать уже достигнутое. Предпринимаются попытки в той или иной точке примкнуть к философским процессам, но недостает сил, чтобы плодотворно развивать гегелевскую картину мира.. Вот что пишет Карл Розенкранц в предисловии к своей "Жизни Гегеля" в 1844 г.: "Не без грусти расстаюсь я с этой работой, - но разве не надо было когда-либо позволить становлению дойти до бытия? Разве не кажется вам, что мы, современники, являемся только могильщиками и устанавливаем памятники тем философам, которые родились во второй половине минувшего столетия и умерли в первой половине нашего? Кант в 1804 г. положил начало этому вымиранию германских философов. За ним последовали Фихте, Якоби, Зольгер, Рейнхольд, Краузе, Шлейермахер, В. фон Гумбольд, Фр. Шлегель, Гербарт, Баадер, Вагнер, Виндишман, Фрис и столь многие другие…Видим ли мы смену, подрастающую за этой жатвой смерти? Способны ли мы и во вторую половину нашего столетия выставить такое же воинство мыслителей? Живут ли среди наших юношей такие, чей платонический энтузиазм и блаженное трудолюбие Аристотеля воодушевляет душу на бессмертное напряжение ради мыслительной спекуляции?... Редкие в наши дни таланты не имеют, однако достаточной выдержки и выносливости. Они быстро исчерпавают себя. После нескольких первых многообещающих цветков они становятся бесплодными и начинают копировать и повторять себя как раз там, где после незрелых и несовершенных, односторонних и торопливых юношеских проб должна наступить пора сильного и собранного действия. Многие, исполненные прекрасного рвения, спотыкаются и падают в беге и вынуждены, как Константин Франтц, в каждом следующем шаге частично возвращаться к предшествующему…".
То, что во второй половине XIX в. люди чувствовали себя вынужденными оставаться при таком суждении относительно эпохального бедственного положения в философии, - явление частное. Превосходный мыслитель Франц Брентано, приступая к обязанностям профессора в Вене, в 1874 г. произнес вступительную речь "О причинах обескураженности в философии". В ней говорилось следующее: "В первые десятилетия нашего века аудитории германских философов были переполнены; в новое время поток испытал глубокий отлив. Поэтому от одаренных мужей часто можно услышать жалобы в адрес молодого поколения, - что у него, якобы, отсутствует чувство для восприятия наивысших отраслей знания. - Это было бы печальным и вместе с тем непостижимым фактом. Чем должно быть обусловлено то, что новое племя во всей его совокупности оказывается таким образом, столь далеко позади предшествующего поколения в смысле в духовного размаха и аристократизма? - В действительности не недостаток таланта, а дефицит доверия является истинной причиной сокращения численности философского ученичества. Если бы вернулась надежда на успех, то, пожалуй, и теперь прекраснейшая пальма исследования манила бы к себе не напрасно…"
Ещё при жизни Гегеля и вскоре вслед за его смертью отдельные личности вполне почувствовали, что слабость гегелевской картины мира кроется в том же, что составляет её величие. Мировоззрение это ведёт к мысли, но зато требует наличия душ, которые полагали бы своё существо полностью исчерпанным в мысли. Если в вышеуказанном смысле слова мысль пришла бы к своей собственной жизни, то это могло бы произойти только внутри индивидуальной душевной жизни; как индивидуальное существо душа нашла бы своё отношение к целому Космосу. Это ощущал, например, Трокслер, но дальше случайного чувства дело у него не пошло. В лекциях, прочитанных им в Бернской высшей школе, он выражает это чувство следующим образом: "Не только теперь, но уже двадцать лет живём мы с глубоко внутренним убеждением и пытаемся в научных трудах и докладах доказать, что философия и антропология, которые должны постичь отдельного человека и всех людей, Бога и мир, могут опираться только на идею и действительность индивидуальности и бессмертия человека. Неоспоримым доказательством этого является в целом вышедшая в 1811 г. работа "Взгляд на существо человека", а переписанная под названием "Абсолютная личность" последняя глава нашей широко распространённой в тетрадях антропологии - вернейшее тому подтверждение. Поэтому мы позволим себе привести здесь начальное место из упомянутой главы: "Вся человеческая природа в своём внутреннем построена на божественном несоответствии, диспропорции (Missverhaeltnise), которое разрешается великолепием сверхземного определения, когда все приводные нити находятся в духе и только весомое остаётся в мире. Мы прослеживаем это несоответствие с его явлениями, начиная от тёмных, земных корней и подступаем к гирляндам небесных растений, которые как будто со всех сторон и во всех направлениях обвивают большой благородный ствол; далее мы доходим до самой верхушки, но она незаметно уходит в более высокое и светлое пространство иного мира, свет которого брезжит нам и воздух коего мы можем почуять…" Такие слова звучат для современного человека ненаучно и сентиментально. Но нужно только принять во внимание цель, к которой движется Трокслер. Он не желает растворить существо человека в идейном мире, а пытается понять "человека в человеке" как "индивидуальную и бессмертную личность". Трокслер видит, что человеческая природа коренится в том мире, который не является всего лишь мыслью; поэтому он обращает внимание на то, что можно говорить о чём-то таком в человеке, что связует его со сверхчувственным миром и что не является просто мыслью: "Уже ранее философы различали утончённое, благородное душевное тело от более грубого тела, или допускали в этом смысле своего рода оболочку духа, некую душу, которая несла в себе образ тела, - его она называли схемой, - и которая была для них внутренним высшим человеком". Трокслер и сам структурирует человека на статичное тело (Koerper), тело (Leib), душу (Seele) и дух (Geist). Далее он характеризует существо души таким образом, что оно статичным телом (корпусом) и телом связано с чувственным, а душой - со сверхчувственным миром. В последнем душа пребывает как индивидуальное существо, также, как и в чувственном мире, а вовсе не теряется в безбрежности мыслительной всеобщности. Однако Трокслер не приходит к тому, чтобы понимать мысль как семя живого познания и, исходя из познания, путем взращивания этого познавательного семени в душе, действительно оправдать правомерность индивидуальных сущностных душевных членов души и духа. Он не предчувствует, что в собственной своей жизни мысль может вырасти до того, чтобы иметь право рассматриваться в качестве индивидуальной жизни души: он способен лишь говорить об этом индивидуальном существе души, основываясь на предчувствии. К чему-то иному, нежели предчувствию этих взаимосвязей, Трокслер придти не смог, ибо он слишком зависел от позитивно-догматических религиозных представлений. Но поскольку он был хорошо осведомлен о состоянии современной ему науки и глубоко прозревал ход мировоззренческой эволюции, его отстранение гегелевской философии объясняется не одной только личной антипатией. Это его неприятие является выражением того, что можно было бы возразить Гегелю из самого настроения гегелевской эпохи. Это весьма знаменательно, когда Трокслер говорит: "Гегель довел спекуляцию до высшей ступени её образования, и, именно тем самым, уничтожил её. Его система сводится к следующему: только до сих, но не шагу дальше! в данном направлении духа!" - В такой форме Трокслер ставит вопрос, который, будучи из простого предчувствия приведен к ясной идее, состоит в следующем: как мировоззрение, восходя над простым переживанием мысли в гегелевском смысле, приходит к участию в оживлении мысли?
Для отношения гегелевского мировоззрения к умонастроению данной эпохи характерна работа K.Х.Вейсе (C.H.Weisse), вышедшая в 1834 г. под названием "Тайное учение о бессмертии человеческого индивидуума". В ней говорится следующее: "Кто изучал гегелевскую философию во всех её взаимосвязях, тому известно, как основательно и последовательно фундирована она в её диалектическом методе, так что субъективный дух конечного индивидуума упраздняется только в объективном духе права, государства и обычая (Sitte) как подчинённый, одновременно отрицательный и утвердительный, словом как несамостоятельный момент в этом более высоком духе. Конечный индивидуум, как уже с давних пор отмечалось в гегелевской школе и вне её, представляет собой преходящее явление…Какую цель и значение могло бы иметь пребывание такого индивидуума после того, как через него прошел мировой дух…" Вейсе на свой манер пытается уравновесить эту незначительность индивидуальной души чем-то непреходящим. То, что и он не в состоянии придти к какому-либо истинному процессу за пределами гегелевского мировоззрения, становится понятным из ходов его мысли, описанных в одной из предшествующих глав данной книги.
Подобно тому, как можно ощутить бессилие гегелевской картины мира в отношении к индивидуальной сущности души, так открывается это бессилие и по отношению к требованию проникнуть в подосновы природы более глубокие, чем те, что открыты чувственному восприятию. То, что (содержание мира), открывающееся восприятию органов чувств является мыслью и, как мысль, представляет собой дух, - было ясно Гегелю; но можно ли с этим "духом природы" прозревать всякий дух в природе, - это представлялось новым вопросом. Если душа посредством мысли не постигает своего собственного существа, то может ли она при каком-либо другом роде переживания своего собственного существа всё же пережить подспудные силы и существ природы? Дело не в том, чтобы подобный вопрос был поставлен со всей ясностью, а только в том, что его можно поставить некоторому мировоззрению. Если это возможно, то, через самую эту возможность мировоззрение производит впечатление неудовлетворительного. Поскольку это имело место в гегелевском мировоззрении, то оно не производит впечатления правильной картины мира, в котором возникают высшие загадки бытия. Это необходимо принять к сведению, если желаешь в надлежащем освещении увидеть тот образ, в котором предстаёт мировоззренческая эволюция в середине XIX века. По отношению к образу внешней природы в эту эпоху происходит дальнейший прогресс. Этот образ воздействует на общее человеческое мировоззрение сильнее, чем прежде. Вполне понятно, что философские представления, достигнув критической точки развития в вышеупомянутом смысле, оказались в ситуации ожесточенной борьбы. - Весьма знаменательно, как приверженцы Гегеля старались защитить его философию.
Карл Людвиг Мишелет, издатель гегелевской "Натурфилософии" в 1841 г. в предисловии к ней писал: "Будут ли и дальше придерживаться той ограниченности философии, создающей лишь мысли, но не способной создать ни одной травинки? Иными словами, способной иметь дело лишь со всеобщим, пребывающим, единственно полноценным, а не с отдельным, чувственным, преходящим? Разве ограниченность философии состоит не только в том, что она не может иметь дело ни с чем индивидуальным, но также и в том, что она даже не знает, как это делать. Следует ответить, что это "как" располагается, скорее всего, не над знанием, а под знанием, то есть знанию здесь не может быть поставлен предел. Ведь в случае этого "как", относящегося к претворению идеи в действительность, знание проходит мимо именно потому, что природа есть бессознательная идея и травинка растёт без какого-либо знания. Тем не менее, истинное творение, творение всеобщего, философия в самом своём познании сохраняет не утерянным…И теперь настала пора констатировать: целомудренное мыслительное развитие спекуляции полнейшим образом согласуется с результатами опыта, и великий смысл природы самым явным образом предстает в нём не иначе, как в виде воплощённых идей."
В том же самом предисловии Мишелет высказывает также следующую надежду: "Гёте и Гегель - вот два гения, которые, как мне представляется, предназначены проложить путь в будущее спекулятивной физике, когда они подготавливают примирение спекуляции с опытом…В особенности заслуживают признания эти гегелевские лекции; ибо, поскольку они свидетельствуют о фундаментальных эмпирических познаниях, Гегель имеет под рукой надёжнейший пробный камень для своих спекуляций".
Последующее время не принесло с собой подобного примирения. Некоторое раздражение и неприязненность по отношению к Гегелю овладевали всё более и более широкими кругами. О распространении этого настроения по отношению к Гегелю можно судить по словам, сказанным Фридрихом Альбертом Ланге в его "Истории материализма" (1865 г.): "Вся его (Гегеля) система движется внутри наших мыслей и фантазий о вещах, коим даны благозвучные имена без предварительного размышления о том, какое значение можно приписать явлениям и выводимым из них понятиям… Благодаря Шеллингу и Гегелю пантеизм стал господствующим образом мыслей в натурфилософии, тем мировоззрением, которое чуть ли не в принципе при известной мистической углублённости одновременно заключает в себе опасность фантастических обольщений. Вместо того, чтобы строго различать опыт и чувственный мир от идеалов и затем в человеческой природе искать примирения этих областей, пантеист осуществляет примирение духа и природы посредством безаппеляционного решения поэтизирующего разума, без каких-либо критических предпосылок".
И хотя это воззрение на Гегеля и его образ мыслей менее всего соответствует его мировоззрению, (сравните главу "Классики мировоззрения"), оно в середине XIX века овладело многочисленными умами и завоёвывало всё новые территории. Один учёный муж, бывший с 1833 по 1872 г. профессором философии в Берлине и пользовавшийся большой популярностью в германской духовной жизни, Тренделенбург, мог вполне рассчитывать на всеобщее одобрение, когда он писал о Гегеле: Гегель с помощью своего метода хотел "учить, не учась", ибо он "прельстившись мнимостью быть владельцем божественного понятия, препятствует кропотливому исследованию своих собственных владений". Тщетно пытался Мишелет опровергнуть подобные суждения словами самого Гегеля: "Развитие философии обязано опыту. Эмпирические науки подготавливают содержание особенного к тому, чтобы оно могло быть воспринято философией. С другой стороны, они, кроме того, содержать в себе потребность для самого мышления подвигаться к этим конкретным определениям".
Для хода мировоззренической эволюции в середине XIX в. характерно высказывание одного значительного, но, к сожалению, малоизвестного мыслителя К.Х. Планка. Им опубликовано в 1850 г. замечательное сочинение "О возрастах мира", в предисловии к которому говорится: "Привести к осознанию чисто природную закономерность и обусловленность всего бытия и одновременно, опять-таки установить полную самосознающую свободу духа, самостоятельный внутренний закон его существа, - эта двойная тенденция, составляющая главную отличительную особенность новой истории, в своей, совершенно подлинной и чистейшей форме, является также и задачей предлагаемой книги. Та, первая тенденция, с момента оживления наук, проявившемся во все возрастающем и всеобъемлющем самостоятельном исследовании природы и высвобождении его от господства чистой религиозности. Она выступает в вызванном этим (освобождением) преобразовании всего физического мировоззрения и во все возрастающей трезвости взгляда на вещи, становящегося рассудочным, а также, в конце концов, выступает в высшей форме - в философском стремлении к постижению законов природы в соответствие с их внутренней необходимостью и всесторонне. На практике же эта тенденция проявляется во все более самостоятельном построении конкретной современной жизни в соответствие с её природными закономерностями". В этих словах запечатлено возрастающее влияние естественных наук. Доверие к этим наукам всё более укрепляется. Начинает задавать тон вера в то, что благодаря средствам и результатам естественных наук можно создать мировоззрение, лишённое гегелевской неудовлетворительности.
Представление о перевороте в этом направлении даёт книга Александра фон Гумбольдта, которая может быть в полном смысле слова названа репрезентативной для этой эпохи, и которая называется "Космос. Проект физического описания мира". Муж, стоящий на высоте естественнонаучного образования своего времени, говорит о своём доверии к естественнонаучному рассмотрению мира: "Моя уверенность зиждется на блестящем состоянии самих естественных наук, богатство которых состоит не просто в полноте наблюдений, но и в их связности. С конца XVIII в. несказанно умножились в числе общие результаты, которые могут пробудить интерес в каждом образованном уме. Разобщённость фактов сократилась; пропасти между дисциплинами заполнились. То, что для узкого поля зрения, вблизи от нас, долго казалось необъяснимым уму исследователя, получило освещение благодаря наблюдениям, произведенным при путешествиях в отдаленные страны. Растительные и животные образования, которые долго казались изолированными, примкнули друг к другу благодаря открытию последующих членов или переходных форм. Всеобщая взаимосвязность, - не в смысле простой линейной последовательности, но в форме сетеобразно сплетенной ткани: в соответствие с более высоким образованием или дегенерацией некоторых органов, с многосторонними колебаниями в относительной ценности тех или иных вещей, - вот что постепенно вырисовывается при исследовании смысла природы.
Штудиум всеобщего природоведения как бы пробуждает в нас долго дремавшие органы. Мы вступаем с внешним миром в более внутреннее общение". Сам Гумбольдт в своём "Космосе" доводит описание природы до той двери, которая открывает доступ к мировоззрению. Он не пытается связать полноту явлений с общими природными идеями; он только подвигает вещи и факты навстречу друг другу в соответствие с их природой, как это соответствует их вполне объективной, "смысловой направленности".
Однако вскоре в духовное развитие вмешались другие мыслители, смело устанавливающие связи, мыслители, которые, опираясь на естествознание, пытались проникнуть в суть вещей. То, что они пытались осуществить, было ни что иное, как всеохватывающее преобразование всех до тех пор существующих мировоззрений и жизненных принципов на основе современной науки и естествознания. Естествознание XIX века было разработано ими сильнейшим образом. Весьма радикально выражается Л.Фейербах, указывая на то, чего они хотели: "Предполагать существование, ставить Бога раньше природы равносильно тому, чтобы предполагать существование храма раньше камней, из которых он построен, или что архитектура, искусство складывать камни в сооружения, существует раньше химических веществ в камне, раньше естественного возникновения и образования камня". Первая половина столетия создала множество естественнонаучных камней для архитектуры здания нового мировоззрения. Это, конечно, верно, что невозможно возвести здание, не располагая для этого строительным материалом. Но не менее верно и то, что с одними камнями ничего поделать нельзя, не имея независимого от них образа будущего сооружения. Подобно тому, как из беспорядочной укладки кирпичей и скрепления их раствором не может возникнуть никакого здания, так и из познанных при исследовании природы истин не может возникнуть никакого мировоззрения, если, независимо от того, что может дать исследование природы, в человеческой душе не найдется сил для образования мировоззрения. Вот что упускают из вида борцы против независимой философии.
Если рассматривать личностей, принявших участие в 50-годах в возведении здания нового мировоззрения, то с особой четкостью выступают физиономии трех мужей: Людвиг Бюхнер (1824-1899), Карл Фогт (1817-1895) и Якоб Молешот (1822-1893). - Если попытаться выразить основное ощущение, воодушевление этих трех мужей, то можно прибегнуть к следующим словам: "Исследовав все особенности вещества, открывающиеся развитым человеческим органам чувств, человек постигает также и суть вещей. Тем самым он достигает абсолютного знания человечества. Всякое иное знание не даёт человеку достоверности". По мнению этих мужей, вся предшествующая философия передает человеку лишь недостоверное знание. Философы идеалисты полагали, - как думает Бюхнер и его соратники по умонастроению, - что следует черпать из разума; но таким образом, согласно Бюхнеру, нельзя создать никакого мыслительного построения наполненного содержанием. "Истину можно подслушать только в природе, в её власти", - сказал Молешот. В это и последующее время ратоборцы за подобное, подслушанное у природы мировоззрение, сплотились как материалисты. Уже подчеркивалось, что этот их материализм, являясь, якобы древнейшим мировоззрением, был еще давно признан выдающимися мыслящими умами неудовлетворительным для высшего мышления. Бюхнер восстаёт против такого суждения: "Во-первых, материализм или всё это направление в целом вообще никогда не было опровергнуто. Оно не только является древнейшим из всех существующих философским рассмотрением мира, но оно при каждом новом оживлении философии в истории всплывает вновь с обновленными силами. Во-вторых, нынешний материализм уже не таков, как у Эпикура и энциклопедистов, а совершенно иной, - это несомое достижениями позитивной науки направление или метод, который весьма существенно отличается от своих предшественников благодаря тому, что представляет собой не систему, как прошлый материализм, а простое реалистически-философское рассмотрение бытия, ищущее прежде всего единые принципы в мире природы и духа и стремящееся всюду к отображению естественной и закономерной связи всех явлений этого мира".
На примере отношения одного мыслителя, стремящегося в самом широком смысле к мышлению, согласованному с природой, - на примере отношения Гёте к одному из виднейших французских материалистов, энциклопедисту Гольбаху, можно показать, как мыслящий ум, вполне признававший права естественнонаучного образа мыслей, относился к материализму. Пауль Генрих фон Гольбах в 1770 г. опубликовал "Систему природы". Гёте, которому эта книга попала в руки в Страсбурге, следующим образом в "Поэзии и правде" характеризует то отталкивающее впечатление, которое она на него произвела: "Материя должна пребывать в вечности и вечно двигаться и, двигаясь направо и налево и во все стороны, без чего-то дальнейшего производить нескончаемые феномены бытия. Всем этим мы могли бы даже удовлетвориться, если бы автор действительно на наших глазах возвел мироздание из своей движущейся материи. Но он сподобился узнать о природе столь же мало, как и мы. Ибо, едва забив в почву несколько кольев общих понятий, он тотчас оставляет их ради того, чтобы нечто превосходящее природу, или то, что является в природе высшею природой, превратить в материальную, тяжелую и хотя и подвижную, но лишённую направления природу и полагает, что таким путем он много достигнет". Гёте был убеждён, что "теория в себе и для себя полезна лишь настолько, насколько она позволяет нам верить в связь явлений" ("Изречения в прозе", Немецкая национальная литература, труды Гёте, том 36,2 стр357).
Естественнонаучные достижения первой половины XIX в. были усвоены как фактические познания, послужившие материалистам пятидесятых годов основанием их мировоззрения. Ибо во взаимосвязи материальных процессов удавалось проникать всё глубже, насколько это позволяли чувственное наблюдение и опирающееся на него мышление. Если при таком проникновении хотят отрицать наличие духа в материи, то, тем не менее, бессознательно открывают в ней этот дух В этом смысле совершенно справедливо писал Ф.Фишер в третьем томе книги "Старое и новое" стр. 97 "То, что так называемая материя порождать нечто такое, чьей функцией является дух, есть сильнейший аргумент против материализма". И в этом смысле Бюхнер бессознательно опровергает материализм, когда он пытается доказать, что духовные процессы выявляются для чувственного наблюдения из глубин материальных фактов.
Пример того, как естественнонаучные познания обретают формы, несущие в себе возможность далеко идущего влияния на мировоззрение, даёт открытие Велера в 1823 г. Ему удалось вне организма воспроизвести вещество, которое образуется в организме. Благодаря этому открытию был получен веский аргумент против веры в то, что определённые вещественные соединения могут, якобы, образовываться только под влиянием особенной жизненной силы, пребывающей в организме. Если оказывается возможным вне живого тела, обходясь без жизненной силы воссоздавать такие вещественные соединения, то можно сделать вывод, что организм тоже работает только с теми силами, с которыми имеет дело химия. Материалистам легко было сказать: если живой организм не требует никакой особенной жизненной силы, чтобы произвести то, что ранее приписывалось ей, то почему должен он нуждаться в особенных духовных силах, чтобы в нём возникли процессы, с которыми связаны духовно-душевные переживания? Вещество с его свойствами стало отныне для материалистов тем, что из своего материнского лона порождает все вещи и процессы. От того факта, что углерод, водород, кислород и азот сочетаются друг с другом в органическом соединении, было недалеко до следующего умозаключения Бюхнера: "Словами "душа", "дух", "мысль", "ощущение", "воля", "жизнь" обозначаются не каких-либо сущности, не какие-либо действительные вещи, но только свойства, особенности деятельности живой субстанции, или же результирующее сущностей, базирующихся на материальных формах бытия". Не божественное существо, не человеческую душу, а вещество с его силой называет Бюхнер бессмертным. И Молешот облекает это убеждение в следующие слова: "Сила не является каким-то творящим Богом, какой-то обособленной от вещественного основания сущностью вещей, она есть неотъемлемое свойство вещества, присущее ему от вечности. - Углерод, водород и кислород - суть силы, которые разлагают даже крепчайшие скалы и уносят их в поток, течение которого создаёт жизнь. - Тайну животной жизни составляет смена веществ и изменение формы отдельных частей при сохранении основного облика в неизменном виде".
Естественнонаучная исследовательская работа дала возможность Людвигу Бюхнеру высказать следующее воззрение: "Подобно тому, как паровой двигатель производит движние, так и сложное органическое соединение наделенных силою веществ в теле животного порождает общую сумму некоторых эффектов, которые, будучи связаны воедино, могут быть нами названы духом, душой, мысль.". А Карл Густав Ройшле в книге "Философия и естествознание. Памяти Давида Фридриха Штрауса" (1874 г.) указывает, что естественнонаучные достижения в самих себе заключают философский момент. Родственные свойства, открытые между природными силами, стали рассматривать как проводника в тайны бытия.
Одно такое важное родственное свойство нашел в Копенгагене в 1819 г. Эрстед. Он обнаружил, что магнитная стрелка отклоняется электрическим током. С другой стороны, Фарадей открыл в 1831 г., что можно вызывать электричество посредством приближения магнита к спиралевидной медной проволоке. Таким образом, магнетизм и электричество были признаны родственными феноменами. Отныне обе силы не рассматривались изолировано друг от друга; было указано на то, что в материальном их бытии заложено нечто общее. Глубокое прозрение в сущность вещественности и силы получил Юлиус Роберт Мейер в 40 -х годах, когда ему стало ясно, что между производимой механической работой и теплотой имеются совершенно определенные соотношения, которые можно выразить числом. Посредством давления, удара, трения работа производит тепло. В паровой машине тепло вновь превращается в работу. Количество теплоты, возникающей из работы, можно вычислить из количества этой работы. Если количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг. Воды на 1 град С, преобразовать в работу, то посредством этого количества работы можно поднять груз весом 424 кг. на высоту в 1 м. Нет ничего удивительного в том, что в таких фактах можно было увидеть больший прогресс по сравнению с теми объяснениями материи, которые давал Гегель: "Переход от идеального к реальному, от абстракции к конкретному бытию, здесь - от пространства и времени к реальности, которая является как материя, непостижим для рассудка и представляется ему как нечто внешнее и как данное". Значение такого замечание становится понятным лишь в том случае, если можешь увидеть нечто ценное в мысли как таковой. Но указанные мыслители были слишком далеки от этого.
К подобным открытиям, касающимся единого характера неорганических природных сил, присоединялись открытия, проясняющие состав органического мира, мира организмов. В 1838 г. ботаник Шлейден уяснил значение простой клетки для тела растения. Он показал, как все ткани растения и оно само строятся из этих "элементарных организмов". Шлейден познавал этот "элементарный организм" как комочек текучей растительной субстанции, окружённый оболочкой (клеточной оболочкой), при наличии более крепкого клеточного ядра. Клетки умножаются и располагаются друг за другом таким образом, что в результате возникает растительное существо. Вскоре вслед за этим Шван открыл нечто подобное и для животного мира. В 1827 г. гениальный Карл Эрнст Бэр открыл человеческое яйцо. Он также проследил развитие из яйца высших животных и человека.
Таким образом, поиски идей, лежащих в основе природных вещей, прекратились. Вместо этого стали наблюдать факты, которые показывали, как из простых и низших развиваются более сложные и более высокие процессы и существа. Всё реже появлялись мужи, стремившиеся к идеалистическому толкованию мировых явлений. В духе идеалистического мировоззрения еще в 1837 г. антрополог Буддах ещё говорил, что жизнь не имеет своего основания в материи, что скорее она посредством высшей силы преобразует материю так, как это ей требуется. Молешотт уже мог сказать: "Жизненная сила, как жизнь, есть ни что иное, как результат сложного взаимодействия и сцепления друг с другом физических и химических сил".
Сознание эпохи стремилось к тому, чтобы не объяснять мироздание никакими иными явлениями, кроме тех, которые разыгрываются непосредственно на глазах человека. Вышедшая в 1830 г. книга Чарльза Лайеля "Принципы геологии" своими принципиальными объяснениями опрокидывала всю старую геологию. Вплоть до эпохального деяния Лайеля полагали, что развития Земли происходит скачкообразно. Должно повторяться всё то, что возникает на Земле и затем оно разрушается в тотальной катастрофе, и над могилой погибших существ возникает новое творение. На этой основе объясняли наличие растительных и животных останков в земных слоях. Кювье был главным представителем учения о повторяющихся эпохах творения. Лайель пришёл к воззрению, что нет нужды в таких перебоях в постоянном ходе земного развития. Если исследовать достаточно долгий период времени, то можно увидеть, что силы, ещё и по сей день действующие на Земле, обусловили все это развитие. В Германии Гёте и Карл Хофф ещё ранее пришли к подобному воззрению. Карл Хофф опубликовал свои воззрения в книге "История переданных в преданиях естественных изменений земной поверхности" (1822 г.)
Со всей отвагой и энтузиазмом мысли Фогт, Бюхнер и Молешот приступили к объяснению явлений из материальных процессов, как они развёртываются перед человеческими чувствами.
Значительного выражения достигла борьба материалистов, когда в полемике противостояли друг другу геттингенский физиолог Рудольф Вагнер и Карл Фогт. Вагнер в "Аллгемейне цейтунг" ("Общей газете") в 1852 г. выступил против воззрений материализма с идеей самостоятельного душевного существа. Он говорил о том, что "душа должна была бы делиться, поскольку ребенок многое заимствует и от отца, и от матери". Фогт отвечал на это сначала в "Картинах из жизни животных". Позиция Фогта в этом споре видна из следующих слов: "Душа, которая является воплощением, существом индивидуальности отдельного, неделимого существа, эта душа должна делиться!..Если душа в акте зачатия должна, как полагает г-н Вагнер, делиться, то она, пожалуй, должна была бы делиться и смерти, так что одна её порция, обременённая грехами, идёт в чистилище, а другая направляется прямо в рай.. Господин Вагнер в заключении своих физиологических писем обещает также экскурсы в область физиологии поделённых душ". Напряжённой стала борьба, когда в 1854 г. на собрании естествоиспытателей в Гёттингене Вагнер выступил против материализма с докладом "Творение человека и душевная субстанция". Он намеревался доказать две вещи. Во-первых, что результаты последних естественнонаучных исследований не противоречат библейской вере в происхождение человеческого рода от одной родительской пары; во-вторых, что эти результаты ничего не решают относительно человеческой души. В 1855 г. Фогт написал против Вагнера сочинение "Слепая вера и наука", которое, с одной стороны показывает, что он стоял на высоте естественнонаучной образованности своей эпохи, а с другой, - что он был глубоким мыслителем, решительно разоблачавшим ложность умозаключений своего оппонента. Его возражение на первое положение Вагнера концентрируется в следующих словах: "Все исторические и естественнонаучные исследования доставляют позитивное доказательство разнообразного происхождения человеческих рас. Излагаемое в работе (Вагнера) учение об Адаме и Ное и двукратном происхождении людей от одной родительской черты - суть наивные байки с научной точки зрения". А против вагнеровского учения о душе Фогт говорит следующее: "Мы видим, как душевные деятельности человека постепенно развиваются вместе с развитием телесных органов. Мы наблюдаем, как с детского возраста до зрелости совершенствуются духовные структуры и как с увяданием органов чувств и мозга одновременно вянет "дух" (ум). Подобное развитие несовместимо с предположением о бессмертной душевной субстанции, расположенной в мозгу как в своём органе". Спора Фогта и Вагнера со всей ясностью показывает, что материалисты пытались свалить своих противников не только на рассудочном основании, но и эмоционально. Вагнер в своём гёттингентском докладе прибегает к моральной потребности, которая не имела бы смысла, если бы "механический, с двумя руками и ногами странствующий повсюду" распадался бы, в конце концов, на безразличные вещества без всякой надежды на вознаграждение за добрые дела и воздаяние за дела злые. Фогт возражает на это: "Существование бессмертной души не является для господина Вагнера результатом исследования или размышления… Бессмертная душа нужна ему для того, чтобы иметь возможность мучить и наказывать её после смерти человека".
Генрих Чолбе (1819-1873) пытался доказать, что имеется такая точка зрения, которая позволяет согласовать моральный порядок с материалистическим мировоззрением. В опубликованной в 1865 г. работе "Границы и происхождение человеческого познания в противовес Канту и Гегелю" он утверждает, что всякая теология рождается из неудовлетворенности миром: "К отрицанию сверхестественного и непостижимого, приводящих нас к предположению второго мира, иными словами - к натурализму нас принуждает отнюдь не власть естественнонаучных фактов и не философия, желающая всё постичь, а мораль в глубочайшем смысле этого слова, а именно то нравственное отношение к миропорядку, которое можно назвать удовлетворенностью природным миром". В стремлении к сверхестественному миру Чолбе усматривает неблагодарность к миру природному. Фундамент потусторонней философии, по его мнению, образуют моральные заблуждения, прегрешения перед духом естественного миропорядка. Ибо они (заблуждения) уводят от "стремления к наибольшему возможному счастью каждого человека" и от исполнения вытекающего из этого стремления долга, "по отношению к нам самим и другим, не принимая в расчёт сверхестественное вознаграждение и возмездие". По его мнению, человек должен был преисполнен "благодарного приятия всего выпавшего ему, может быть малого земного счастья, а также смирения, заложенного в удовлетворённости природным миром, поскольку счастье ограничено, а страдание неизбежно". Здесь мы опять сталкиваемся с отклонением сверхестественного морального миропорядка по моральным же соображениям.
В мировоззрении Чолбе можно ясно увидеть, какие особенности материализма делают его столь приемлемым для человеческого мышления. Ибо, вне всякого сомнения Бюхнер, Фогт и Молешот не были в достаточной мере философами, чтобы с логической безупречностью обосновывать свои воззрения. Они подпадали власти естественнонаучных фактов. Они не пытались подняться на высоты мышления, подобающего идеям, - как говорил Гёте, - они, будучи преимущественно натурфилософами, строили умозаключения на основе чувственного восприятия. Они не считали своим делом дать себе отчет о своём опыте, исходя при этом из природы человеческого познания. Это сделал Чолбе. В его "Новой интерпретации сенсуализма" (1855) мы находим объяснение, почему познание на основе чувственного восприятия он считал единственно возможным. Только такое познание предоставляет отчетливо представимые, наглядные понятия, суждения и выводы. Всякое умозаключение о чём-то непредставимом, а также всякое неопределённое понятие не допускаются. Согласно воззрениям Чолбе, наглядным, ясным является не душевное, как таковое, а материальное, в котором духовное проявляется как свойство. Поэтому в работе "Возникновение самосознания. Ответ профессору Лотце" (1856) он пытается свести самосознание к материально-наглядным процессам. Он принимает круговое движение частиц мозга. Благодаря такому движению, возвращающемуся к самому себе, впечатление, оказываемое на органы чувств, становится сознательным ощущением. Интересно, что это физикалистское объяснение сознания послужило для Чолбе вместе с тем поводом изменить своему материализму. Здесь на нем выявляются слабости, присущие материализму. Останься он верным своим постулатам, он не смог бы со своими объяснениями двинуться дальше того, что позволяют факты, исследованные с помощью органов чувств. Ему не следовало бы говорить ни о каких иных процессах в мозгу, как только о тех, которые могли бы быть действительно установлены естественнонаучными средствами. Поставленное им является, тем самым, бесконечно далёкой целью. Мыслящие умы, подобные Чолбе не довольствуются тем, что исследовано; они гипотетически предполагают факты ещё не исследованные. Одним из таких фактов является вышеупомянутое круговое движение частиц головного мозга. Полное, совершенное исследование головного мозга позволило бы познакомиться с такими его процессами, которые в ином случае нигде в мире не происходят. Отсюда следует, что душевные процессы, обусловленные процессами в головном мозгу, осуществляются в связи лишь с одним головным мозгом. Относительно своего гипотетического кругового движения Чолбе не мог утверждать, что оно ограничено пределами головного мозга. Оно могло бы происходить также и вне животного организма. Но тогда оно могло бы привести к душевным явлениям у неодушевлённых предметов. Стремящийся к ясности наблюдения, Чолбе фактически не исключал всеобщей одушевлённости природы. "Не должно ли моё воззрение, - говорил он, - послужить реализацией Мировой души, которую еще Платон отстаивал в своём "Тимее"? Не здесь ли находится точка слияния лейбницева идеализма", населявшего весь мир одушевлёнными существами (монадами), с современным натурализмом?
Ошибка, совершенная Чолбе с его круговыми движениями головного мозга, в ещё большей степени выступает у гениального Карла Христиана Планка (1819 - 1880). Труды этого мужа оказались целиком преданными забвению, хотя они представляют собой наиболее интересное из того, что породила новая философия. Подобно материалистам Планк стремился к объяснению мира, исходя из воспринимаемой действительности. Он порицает немецкий идеализм Фихте, Гегеля, Шеллинга за то, что тот односторонне усматривал сущность вещи в идее. "Объяснить вещь поистине независимо, из неё самой, означает познать её в её изначальной обусловленности и конечности" (Планк "Возраст мира" стр. 103) "Есть только одна единая и поистине чистая природа, так что просто природа в узком смысле и дух суть только противоположности в лоне единой природы в более высоком и широком смысле" (там же стр. 101.) Но здесь с Планком происходит нечто достойное внимания: хотя он считает, что при объяснении мира следует искать реального, протяженного, но, тем не менее, для овладения этим реальным, протяжённым он не прибегает к чувственному опыту, к наблюдению фактов. Он полагает, что человеческий разум сам по себе способен проникнуть к реальному. Гегель допустил ошибку, предоставляя разуму рассматривать самого себя, так, чтобы он во всех вещах видел самого себя; однако он не хотел позволить разуму застыть в себе самом, выводя его за его пределы к протяжённому, как истинно-действительному. Планк порицает Гегеля, поскольку тот позволяет разуму ткать свою собственную паутину из самого себя; он сам (Планк) достаточно отважен, чтобы позволить разуму прясть объективное бытие. Гегель говорил, что дух может постичь сущность вещей, ибо сущностью вещей является разум, и этот разум обретает бытие в человеческом духе; Планк поясняет: сущностью вещей разум не является, но всё же он прибегает к разуму, чтобы отобразить эту сущность вещей. Смелая конструкция мира, хотя и продуманная на высоком духовном уровне, но продуманная вдали от действительного наблюдения, далекая от реальных вещей, - она, тем не менее, верит, в то, что целиком проникнута самой истинной действительностью, - таково идейное построение Планка. Он рассматривает мировое свершение как живое чередование расширения и сжатия. Сила тяжести представляется ему стремлением протяжённых в пространстве тел к сжатию, стягиванию. Тепло и свет суть стремление какого-либо тела привести своё сжатое вещество к деятельности вдали, то есть представляет собой стремление к расширению.
Очень интересно отношение Планка к своим современникам. Фейербах сказал о себе: "Гегель занял позицию того, кто желает конструировать мир, я же - позицию того, кто желает познать его; он нисходит, я восхожу. Гегель ставит человека на голову, а я - на ноги, опирающиеся на геологию". Материалисты тоже могли бы характеризовать своё вероисповедание таким же образом. Планк в точности повторяет гегелевский образ мыслей, но полагает, что ведет себя в духе Фейербаха и материалистов. Эти последние должны были бы возразить ему относительно его манеры мышления: ты стоишь на позиции конструирования мира, но при этом намереваешься познать его в бытии; ты нисходишь вниз, но говоришь себе, что поднимаешься вверх; ты ставишь мир на голову, воображая, что голова является ногами. Стремление к естественной, "фактической" действительности в третьей четверти XIX в. не могло, пожалуй, найти более отчётливого выражения, нежели в мировоззрении ученого мужа, который хотел расколдовать из разума не только идеи, но и саму реальность. Не менее интересной представляется личность Планка, если её сравнить с личностью его современника Макса Штирнера. В этом отношении заслуживает особенного внимания то, как Планк судил о мотивах человеческой деятельности и общественной жизни. Подобно тому, как материалисты исходят в своём объяснении природы из действительно данных чувствам веществ и сил, Штирнер ставил во главу угла в человеческом поведении отдельную личность. Разум принадлежит только отдельным индивидам. Совместная жизнь образуется из естественного взаимодействия отдельных личностей. Если каждый ведёт себя сообразно его разуму, то благодаря свободному взаимодействию Всех достигается идеальное состояние общества. Естественная совместная жизнь возникает сама собой, если каждый в своей индивидуальности предоставит править разуму. В смысле Штирнера - править таким же образом, как - по мнению материалистов - возникают сообразные природе воззрения о мировых явлениях, если человек позволяет самим вещам высказывать их сущность, а деятельность разума ограничить исключительно тем, чтобы соответственным образом увязывать и толковать то, что высказывают внешние чувства. Подобно тому, как Планк объясняет мир не посредством того, что позволяет вещам говорить за себя, но своим разумом решает, что они, якобы, высказали, так и по отношению к общественной жизни Планк не видит решающего фактора во взаимодействии личностей, но мечтает о союзе народов, управляемом разумом и служащем всеобщему благу, союзе, во главе с высшей правовой властью. Стало быть, и здесь он считает возможным, что разум овладеет и тем, что лежит по ту сторону личности. "Изначальный, всеобщий правовой закон с необходимостью требует некоторой всеобщей правовой власти как выражения своего внешнего бытия; ибо этот закон не мог бы существовать внешним образом и носить всеобщий характер, если бы отдельные личности были предоставлены самим себе осуществлении этого закона, поскольку по своему правовому статуту они выступают лишь представителями своего права, а не всеобщего как такового". Планк конструирует всеобщую правовую власть, поскольку правовая идея может стать действительной только таким образом. За пять лет до этого Макс Штирнер писал: "Собственником и творцом моего права я не признаю никакого иного правового источника, кроме меня самого, - ни Бога, ни государство, ни природу, ни человека с его "вечными человеческими правами", ни божественное, ни человеческое право". Штирнер полагает, что действительное право одного индивида не может пребывать внутри всеобщего право. Жажда действительности, - вот что подстёгивает Штирнера к отрицанию недействительного общего права, однако жажда действительности пробуждает у Планка желание сконструировать из некой идеи некое реальное правовое состояние.
В работах Планка легко увидеть, что вера в два, отраженные друг в друге мировых порядка (естественный и чисто духовный, не природный) невыносимо для него тяжела.
Уже в более раннюю эпоху имелись мыслители, стремившиеся к чисто естественнонаучному образу мыслей. Отвергнув более или менее ясные попытки других, Ламарк в 1809 г. предложил свою картину возникновения и развития живых существ, которая на фоне современных ему познаний и воззрений имела в себе много привлекательного. Он полагал, что простейшие живые существа при определенных условиях возникают благодаря неорганическим процессам. Если на этом пути возникает однажды живое существо, оно, благодаря приспособлению ко внешним условиям, развивает из себя новые образования, которые служат его жизни. Оно выгоняет из себя новые органы, так как последние необходимы ему. Итак, существа способны преобразовываться и при этом преобразовании совершенствоваться. Ламарк приводит следующий пример такого преобразования. Есть животное, которое добывает пищу с высоких деревьев, так что ему нужно для этой цели вытягивать свою шею в длину. Под влиянием указанной потребности с течением времени шея удлиняется. Из животного с короткой шеей возникает жираф с длинной шеей. Таким образом животные возникают не во множественности, но, наоборот, - эта множественность возникает лишь с течением времени, благодаря естественному приспособлению к внешней среде. Ламарк полагал, что и человек включён в подобное развитие. В течение долгого времени он развивался от обезьяноподобных форм к таким формам, которые позволяют ему удовлетворить высшие телесные и духовные потребности. Итак, весь неорганический мир вплоть до человека, Ламарк включил в царство неорганического.
В своё время попытка Ламарка объяснить многообразие жизни не привлекла к себе достаточного внимания. Спустя два десятилетия во французской Академии между Жоффруа Сент-Илером и Кювье. Жоффруа Сент-Илер усматривал за множеством животных организмов единый план их строения. Такой план был предпосылкой для объяснения их развития друг из друга. Если они развивались один из другого, то за их множественностью скрывалось нечто общее. В низших животных должно быть познано нечто такое, что требует только совершенствования для того, чтобы со временем оформиться в высших животных. Кювье решительно выступал против следствий такого воззрения. Этот ученый муж был осторожен, и указал на то, что для таких далеко идущих выводов факты не дают предпосылок. Гёте, едва услышав об этом споре, расценил его как важнейшее событие эпохи, заставившее померкнуть происходящие в то время политические события, - июльская революция во Франции. Он достаточно ясно выразил это в разговоре с Зоретом (Soret) в августе 1830 г. Ему было ясно, что от этого спорного вопроса зависит соответствующее природе понимание органического мира. В одной из написанных им статей он энергично выступает за Жоффруа Сент-Илера (см. "Естественнонаучные труды Гёте" том 36, Собрания сочинений Гёте, Немецкая национальная литература). Иоганнесу фон Мюллеру он говорил о том, что Жоффруа Сент-Илер идет тем же путём, на который он сам вступил полвека назад. Отсюда ясно, чего хотел Гёте, когда он, после переезда в Веймар, занялся исследованием животных и растений. Уже в ту пору он предчувствовал согласное с природой объяснение множественности живого; однако он был осторожен. Он никогда не утверждал большего, нежели позволяли факты. Во "Введении" к своему "Метаморфозу растений" он говорит, что в то время еще не было достаточной ясности по отношению к этим фактам. Тогда еще считали, что, - по его выражению, - обезьяне было достаточно распрямиться и ходить на задних лапах, чтобы иметь возможность стать человеком.
Образ мыслей естественнонаучных мыслителей был совершенно отличен от образа мыслей гегельянцев. Последние могли оставаться внутри своего идеального мира. Они могли развить идею человека из идеи обезьяны, не заботясь о том, каким образом природа в действительном мире даёт возникнуть человеку наряду с обезьяной. Ещё Мишелет говорил, что это не дело идеи - высказываться о том, "как" происходят процессы в действительном мире. Последователь материалистического мировоззрения находится в положении математика, которому нет необходимости говорить что-либо сверх того, какие мыслительные операции превращают круг в эллипс, а эллипс - в параболу или гиперболу. Но тот, кто стремится к объяснению на основе фактов, тот должен указать действительные процессы, благодаря которым происходит подобное превращение. В таком случае он становится ваятелем реалистического мировоззрения. Он не станет придерживаться той точки зрения, которую Гегель выразил в следующих словах: "Это неразумное представление старой, а также и новой натурфилософии, когда поступательное развитие и переход одной природной формы или сферы в более высокую, расценивается как внешне действительный процесс, который, тем не менее, ради ясности, отсылается в темноту прошлого. Природе присуща внешняя особенность дробиться в различиях и позволять этим различиям выступать в индифферентных экзистенциях; идея, устраняющая ступени, является её внутренней особенностью. Мысленное рассмотрение должно отказаться от таких туманных и, в сущности, чувственных представлений, как, - в особенности, - так называемое происхождение, например, растений и животных из воды, а затем - происхождение более развитых животных организаций из более низших". (Гегель, Сочинения, 1847 г. том 7, стр. 33). Такому высказыванию мыслителя идеалиста Ламарк противопоставляет реалистическое суждение: "В самом начале возникли только самые простейшие и низшие животные и растения, и только впоследствии - виды с в высшей степени сложной организацией. Ход развития Земли и её органического населения был абсолютно плавным, не нарушаемым насильственными революциями. Простейшие животные и простейшие растения, пребывающие на наиболее низких организационных ступенях, возникли и возникают ещё и по сей день посредством самозарождения" (Generatio spontano -спонтанной генерации)
Единомышленники Ламарка были и в Германии. Лоренц Окен (1779-1851) также выдвинул учение об естественном развитии живых существ, основанное на чувственном представлении. "Всё органическое вышло из слизи и представляет собой ни что иное, как только различным образом сформированную слизь. Эта первичная слизь возникла в море в ходе планетарного развития из органической материи".
Несмотря на столь захватывающие мыслительные построения, именно у тех мыслителей, которые не хотели ни на миг утратить путеводные нити фактического познания, образ мыслей согласованный с природой вызывал сомнения, поскольку целесообразность живых существ оставалась не разъясненной. Особенно близко к рассмотрению целесообразности подошёл один из таких прокладывающих пути и указующих направления мыслителей, как Иоганн Мюллер: "Органические тела отличаются от неорганических, не просто видом составляющих их элементов, но непрестанной деятельностью, которая развёртывается в живой материи и создаёт также и в законах некий разумный план, обладающий целесообразностью, причём часть подчинена целям целого, которое и является тем, чем отличается организм". (И. Мюллер, "Учебник физиологии человека", 3 изд. 1838, т 1 стр. 19). У такого ученого, как Иоганн Мюллер, который строго придерживается границ естественного исследования и у которого суждение о целесообразности оставалось лишь приватной мыслью на фоне его исследования фактов, это воззрение не могло иметь особенных последствий. Он исследовал законы организмов строго предметно, не взирая на их целесообразные связи; благодаря своему всеохватывающему осмыслению, на службу которому он в самом широком масштабе сумел поставить физические, химические, анатомические, зоологические, микроскопические и эмбриологические познания, он стал реформатором современного учения о природе. Его воззрение не мешало ему обосновать душевные особенности существ их телесными отличительными свойствами. Согласно одному из его принципов, нельзя быть психологом, не будучи физиологом. Но разве тот, кто, выходя за пределы естественного исследования, переходил в область общего мировоззрения, не оказывался в счастливом положении, которое позволяло бы ему без обиняков взять за основу целесообразность? И тогда становится вполне понятным, почему такой значительный мыслитель, как Густав Теодор Фехнер в книге "Зенд-Авеста или о природе неба и потустороннего" (1852) высказывает мысль, что в любом случае было бы странным полагать, будто бы не требуется никакого сознания, чтобы создать таких сознательных существ, каковыми являются люди, ибо не обладающие сознанием машины созданы лишь обладающими сознанием людьми. Также и Карл Эрнст Бэр, который до самых первоистоков прослеживал развитие животного существа, не мог позволить себе мысли, что процессы в живом теле стремятся к определённой цели, что для всей природы в совокупности применима идея целесообразности. (К.Э.Бэр "Уроки из области естествознания", 1876, стр.73.и 82)
Подобных трудностей, возникающих всякий раз, когда пытаются создать картину мира из элементов одного лишь чувственного восприятия, мыслители материалисты не замечают. Поэтому идеалистической картине мира первой половины столетия они стремились противопоставить нечто такое, что все аргументы, весь "свет" для прояснения картины мира черпает исключительно из фактов природы. Они доверяли только тем познаниям, которые достигались на основе этих фактов.
Помимо этого доверия ничто не позволяет людям так глубоко заглянуть в сердце материалистов. Их упрекали в том, что они берут у вещей душу, то есть то, что говорит к сердцу, к нравственности человека. Разве не бросается в глаза, что они похищают все возвышающие человеческую душу достоинства природы и низводят её до состояния мёртвой вещи, в которой рассудок может удовлетворить инстинктивную потребность найти для всего причины, оставив сердце безучастным? Разве не кажется, что они предали погребению возносящуюся над природными инстинктами, следующую возвышенным, чисто духовным мотивам мораль и развернули знамена животных инстинктов со словами: мы едим и пьём, удовлетворяем наши животные инстинкты, ибо завтра мы умрём? Лотце (1817-1881) именно об этой эпохе, о которой идет здесь речь, сказал следующее: её представители чтут истину трезвого опытного познания в той же мере, с которой они проявляют враждебность, оскорбляя всё то, что душа почитает как неприкосновенное.
Однако в лице Карла Фогта мы знакомимся с человеком, который обладал тонким пониманием красоты природы и пытался, хотя и как дилетант запечатлеть её в живописи. Этот муж не был глух к созданиям человеческой фантазии, - напротив, он обнаруживал утончённое чувство, общаясь с поэтами и художниками. Отнюдь не меньшим было эстетическое наслаждение чудесным строением органических существ, которое вдохновило материалистов выдвинуть мысль о том, что великолепные феномены телесного мира могли быть первоисточником души. Разве не должны были они сказать себе: насколько чудесное строение головного мозга имеет более веские основания быть причиной, источником духа, нежели те абстрактные понятия, которыми занимается философия?
Также и упрёк в недооценке нравственности не относится к материалистам безусловно. Природоведение сочетается у них с глубоко этическими мотивами. Если Чолбе в особенности подчёркивает, что натурализм имеет нравственное основание, то это ощущали и другие материалисты. Они хотели привить человеку радость чувственного бытия: они хотели пробудить в нём чувство, что задачи и обязанности он должен искать на земле. Они считали укреплением человеческого достоинства пробуждение у человека сознания того, что он из несовершенного, слабого существа поднялся к своему нынешнему совершенству. Речь у них шла лишь о том, чтобы вынести правильное суждение относительно человеческих действий, соответствующих природным необходимостям, из которых личность развивает свою активность. Они говорили себе: лишь тот способен познать человека в его истинной ценности, кто знает, что вместе с веществом в космосе кружится жизнь, что с жизнью связана мысль, а с мыслью, в силу природной необходимости, связана добрая или злая воля. Возражая тем, кто чувствовал со стороны материализма угрозу нравственной свободе, Молешот говорит: "Каждый является свободным, если он с радостью осознаёт природную необходимость своего бытия, своих обстоятельств, своих потребностей, притязаний и запросов, границ и радиуса действия своего круга деятельности. Кто постиг эту природную необходимость, тот знает так же как отстоять своё право, свои требования, которые вытекают из потребностей рода. Более того, поскольку лишь та свобода, которая находится в созвучии с истинно человеческим началом, с природной необходимостью находится под защитой рода, постольку в любой борьбе за человеческое благо гарантирована конечная победа над угнетателями".
С такими чувствами, с такой преданностью чудесам природных процессов, с такими нравственными ощущениями материалисты ожидали появления человека, который, по их мнению, должен был появиться рано или поздно, человека, который преодолеет препятствия на пути к согласному с природой мировоззрению. Этот человек явился к ним в лице Чарльза Дарвина, труд которого, поставивший идею целесообразности на почву естествознания, был опубликован в 1859 г. под названием "О происхождении видов в животном и растительном царствах посредством естественного отбора или сохранения совершенствующихся рас в борьбе за существование".
Для познания импульсов, действующих в философской мировоззренческой эволюции, имеют значение не выбранные здесь для примера успехи естествознания как таковые, - их могло бы быть значительно больше, - а тот факт, что такого рода успехи совпали с возникновением гегелевской картины мира. В предшествующих главах было показано, что новая картина мира со времён Коперника, Галилея ит.д. находилась под влиянием естественнонаучного образа мыслей. Однако это влияние не было столь значительным, как влияние естественнонаучных достижений девятнадцатого столетия. На рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий также имели место важные достижения в естествознании. Достаточно упомянуть открытие кислорода Лавуазье, открытия Вольта в области электричества ит.п. Несмотря на это, такие выдающиеся умы как Фихте, Шеллинг, Гёте, при полном одобрении естественнонаучных достижений, пришли к картине мира, которая проистекала из духа. Естественнонаучный образ мыслей еще не воздействовал на них так, как воздействовал он на мыслителей материалистов середины столетия. Ещё можно было поставить естественнонаучные представления на одной стороне мировоззренческой картины, имея на другой её стороне такие представления, которые содержали в себе нечто большее, чем "чистые мысли". Одним из таких представлений была, например, "жизненная сила" или представление о "целесообразном строении" живого существа. Подобные представления позволяли сказать: в мире действует нечто такое, что не подпадает обычной закономерности, что является духовным. Это привело к представлению о духе, которое в некотором роде имело "фактическое содержание" . Гегель изгонял из духа всё фактическое. Он утончал его до степени "чистой мысли". Для тех, кто воспринимал "чистые мысли", "просто мысли" как образы фактического, дух, тем самым, выступал в своей никчёмности уже в самой философии. Они должны были на место "чисто мыслительных вещей" (лишь помысленных вещей) Гегеля поставить нечто такое, что обладало для них действительным содержанием. Вот почему они искали происхождение "духовных феноменов" в материальных процессах, которые можно было чувственно наблюдать "как факты". Вследствие того, что сделал из духа Гегель, мировоззрение устремилось к мысли о материальном происхождении духа.
Тот, кто видит, что историческому развитию человечества содействуют более глубокие силы, чем на поверхности, тот, - относительно мировоззренческой эволюции, - обнаружит нечто значительное в том, как поставлен материализм девятнадцатого столетия по отношению к возникновению гегелевской философии. - В мыслях Гёте уже имелись семена для последующего развития философии, которыми Гегель воспользовался только отчасти. Если Гёте пытался достичь такого представления о "Прарастении", с которым он мог бы внутренне жить, мысленно черпая из него такие специфические растительные образования, которые были бы способны к жизни, то он тем самым показал, что он стремился к оживлению мысли в душе. Он стоял перед вступлением мысли в (этап) живого развития этой мысли, в то время как Гегель остановился на мысли. В душевном совместном бытии с оживающей мыслью, к которому стремился Гёте, могло бы быть достигнуто такое духовное переживание, которое позволило бы признать дух также и в веществе; в пределах "чистой мысли" это недостижимо. Так мировое развитие было подвергнуто строгому испытанию. Следуя глубоким историческим импульсам, новая эпоха стремилась не только переживать мысль, но обрести для самосознающего "я" такое представление, благодаря которому можно было бы сказать: это "я" прочно встроено в конструкцию мира. Благодаря тому, что последнюю мыслили как результат материальных процессов, "я" становилось понятным для уровня современной образованности. Даже в отрицании духовной сущности самосознающего "я" со стороны материализма девятнадцатого столетия заложен импульс поиска сущности этого "я". Вот почему тот естественнонаучный натиск, который был оказан в ту пору на мировоззрение, имел в истории последнего совершенно иной смысл, нежели влияние естественнонаучного образа мыслей на предшествующие материалистические течения. Они ещё не были подвигнуты мыслительной философией Гегеля на поиск достоверности, получаемой посредством естествознания. Это стремление еще не проявляется так, чтобы быть с полной ясностью осознанным ведущими индивидуальностями; оно в качестве эпохального импульса действует лишь в подсознательных основах души.
ДАРВИНИЗМ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Если идее целесообразности было суждено претерпеть peформу в смысле подобающего природе мировоззрения, то целесообразные образования живой природы должны были подвергнуться той же процедуре объяснения, с которой физик или химик объясняют неорганические процессы. Когда магнитный стержень притягивает железные опилки, ни один физик не станет думать, что в стержне действует cилa, работающая с целью притяжения. Когда водород и кислород связуются в воду, никто из химиков не истолковывает дело так, словно в обоих веществах действует нечто, озабоченное целью образования воды. Одно из таких опирающихся на чувственное наблюдение объяснений живых существ должно было сказать себе: организмы целесообразны без того, чтобы нечто в природе было нацелено на эту целесообразность. Целесообразность возникает помимо того, чтобы где-то имелись задатки для нее как таковой. Такое объяснение целесообразности было предложено Чарльзом Дарвиным. Он придерживался точки зрения, признающей, что ничто в природе не желает целесообразности. Для природы не имеет никакого значения, целесообразно или нет то, что в ней возникает. Она порождает без разбора и целесообразное и нецелесообразное.
Что такое в сущности целесообразное? - Это нечто, уст-роенное таким образом, что его потребностям, его жизненным условиям соответствуют внешние отношения бытия. Напротив, нецелесообразным является то, что выпадает из рамок такого соответствия. Что происходит, если при полнейшей бесплановости природы между высшими ступенями целе- и нецелесообразности возникают все степени большей или меньшей целесообразности? Каждое существо начинает формировать свое бытие сообразно данным обстоятельствам. Целесообразному это удается вполне, а более или мeнee целесообразному - лишь в некоторой мере. Здесь надо еще взять в соображение следующее: природа отнюдь не яв-ляется бережливой хозяйкой в смысле рождения живых существ. Количество зародышей неисчислимо. Это изобилие в производстве зародышей находится в противоречии с ограниченностью средств жизни. Вследствие этого преимуществами в развитии пользуются те существа, которые организованы целесообразно по отношению к имеющимся средствам жизни. Более целесообразно устроенные существа в борьбе за существование обходят существ, организованных менее целесообразно. В результате эти последние, будучи рядом с первыми, должны погибнуть. Способные, т.е. целесообразные, сохраняются, неспособные, т.е. нецелесообразные, гибнут. Это и есть "борьба за существование". Благодаря ей целесообразное сохраняется также и в том случае, когда в природе наобум наряду с целесообразным возникает нецелесообразное. Благодаря закону, который столь активен, столь мудр, как может быть мудр только математический или механический закон природы, развитие природы удерживает тенденцию к целесообразности без того, чтобы эта тенденция была где-либо заложена в природе.
К этим мыслям привело Дарвина чтение книги политэконома Мальтуса "Об условиях и последствиях роста народонаселения", в которой говорилось о том, что в человеческом обществе не утихает борьба, ибо нaселение растет гораздо быстрее, чем количество продуктов питания. Установленный таким образом закон человеческой истории Дарвин распространил на все действительное бытие.
Дарвин хотел показать, что эта борьба за существование становится создательницей многоразличных форм живых существ и таким образом оказывается опровергнутым старое утверждение Линнея: "Насчитывается столько животных и растительных видов, сколько различных форм может возникнуть в принципе". Сомнение в этом положении укрепилось у Дарвина, когда он летом I83I г. путешествовал по Южной Америке и Австралии. Он пишет об этом следующее: "Когда я во время путешествия на корабле Бигль посетил галапагосский архипелаг, находящийся в Тихом океане на расстоянии около 500 англ.миль от побережья Южной Америки то оказался в окружении необычных видов птиц, рептилий и змей, не существовавших нигде в миpe. Но все же почти все они несли на себе отпечаток американской природы. В пении пересмешника, в резких криках стервятников, в большой светящейся опунции явственно чувствовалось соседство с Америкой. И однако, острова эти отстояли столь далеко от материка и далеко отклонялись от него по своему геологическому строению и климату. Еще более ошарашивающим был тот факт, что большинство обитателей отдельных островов сего маленького архипелага существенно отличались друг от друга, хотя и принадлежали к одинаковым семействам. Я часто спрашивал себя в ту пору, как могли возникнуть эти необычайные животные и люди. Самое простое объяснение можно было усмотреть в том, что обитатели отдельных островов происходили друг от друга и затем в ходе этого происхождения претерпели модификации и что все жители архипелага произошли от обитателей материка, откуда естественным образом проистекает колонизация. Но для меня долго оставалась неразрешимой проблема, - как могла быть достигнута необходимая степень модификации?" - В ответе на этот вопрос - КАК - состоит соответствующее природе постижение живых существ. Подобно тому, как физик приводит вещество в различные отношения, чтобы исследовать его свойства, так Дарвин после его возвращения наблюдал явления, которые возникают у живых существ в различных отношениях и обстоятельствах. Он пpoвoдил эксперименты по выращиванию голубей, петухов, собак, кроликов и культурных растений. Опыты показали, что в ходе размножения живые формы постоянно изменяются. В некоторых случаях определенные живые существа уже через несколько поколений изменяются так сильно, что при сравнении вновь возникших форм с их предками можно было подумать, будто речь идет о двух совершенно различных видах, каждый из которых имеет собственный план организации. Такими изменениями может руководствоваться селекционер при выращивании культурных организмов в согласии со своими замыслами. Он может создать породу особенно тонкошерстных овец, если будет отбирать для размножения только овец с тончайшей шерстью. Тонкость шерсти будет возрастать вместе с новыми поколениями овец. Спустя некоторое время можно получить такую разновидность овец, которая будет сильно отличаться от поколения предков. Та же закономерность имеет место и применительно к другим качествам живых существ. Из этого факта вытекает двоякое. Во-первых, что в природе заложена тенденция к изменению живых существ; во-вторых, что особенность, которая стала в определенном направлении изменяться, усиливается в этом направлении, если от размножения будут удержаны те особи, которые этим качеством еще не обладают. Органические формы с течением времени усваивают, стало быть, другие качества и удерживаются в русле однажды наступившего изменения. Они изменяются и переносят на потомков видоизмененные качества.
Естественным умозаключением из этого наблюдения явилось ПОЛОЖЕНИЕ, что изменчивость и наследственность суть два направляющих принципа в живых существах. Если принять во внимание, что в мире ecтecтвeнным образом существа изменяются так, что целесообразное возникает наряду с более или менее целесообразным, то, следовательно, и борьба за существование предполагает многообразно изменяющиеся формы. Непланомерно эта борьба создает то же, что селекционер делает преднамеренно. Подобно тому, как селекционер исключает из процесса воспроизведения тех особей, которые могли бы внести в развитие нежелательные элементы, так борьба за существование устраняет нецелесообразное. Для развития предопределяется только целесообразное. Благодаря этому в развитие вносится, наподобие механического закона, тенденция к постоянному совершенствованию. Послe такого открытия, положенного им в основу сообразного природе мировоззрения, Дарвин мог позволить себе следующее исполненное энтузиазма суждение в конце своей пpoвозглашающей новую эпоху мышления книги о "Происхождении видов": "Из борьбы природы, из голода и смерти происходит наивысшее, что мы способны постигнуть, - создание более высоких животных. Есть нечто величественное в этом видении жизни, когда она, располагая различными cилaми идущими от Творца, создает сначала лишь немногие формы или, может быть, всего одну; и что, в то время как эта планета в соответствии с определенными законами силы тяжести кружилась по своей орбите, из простого начала развилось и еще разовьется бесконечное множество прекраснейших и изумительнейших форм". Из этих слов можно увидеть, что Дарвин пришел к своему воззрению не из каких-либо антирелигиозных ощущений, а единственно - следуя тем выводам, которые следовали из внятно говорящих фактов. В его случае враждебность к пoтpeбнocтям чувства не определяла формирование разумного воззрения на природу, ибо он ясно говорит нам в своей книге о том, как найденный им мир идей относился к его сердцу: " Весьма выдающемуся писателю кажется вполне удовлетворительным взгляд, что каждый из видов был создан независимо от другого. По моему мнению, с законами, насколько нам это известно, напечатленными Творцом материи, лучше согласуется то, что рождение и угасание прежних и теперешних обитателей Земли, равно как и определение рождения и смерти отдельных индивидуумов, зависит от вторичных причин. Если я рассматриваю всех существ не как обособленных созданий, а как прямых (linear) потомков весьма немнoгoчислeнныx существ, живших задолго до отложения древнейших геологических слоев, то они представляются мне благодаря этому облагороженными... С полным доверием должны мы взирать в лицо весьма отдаленного будущего. Поскольку природная селекция вершит только посредством и для блага каждого существа, то все телесные и духовные дарования устремлены к совершенству".
На некотором множестве фактов Дарвин показывает, как растут и paзмножаются организмы, как в ходе своего последовательного развития они наследуют однажды усвоенные качества, как возникают новые органы и затем видоизменяются благодаря использованию или неиспользованию, как, стало быть, все создания приспособляются к условиям своего бытия; и наконец, как борьба за существование вызывает естественный (селекционный) отбор, благодаря которому возникают многообразные, всё более совершенные формы.
Таким образом, было найдено объяснение целесообразных существ, которое не требовало в органическом мире иного поведения, чем в неорганическом. Пока такого объяснения не было достигнуто, то, чтобы быть последовательным, нужно было предположить, что всюду там, где внутри природы возникает целесообразное, имеет место вмешательство чуждой природе силы. Тем самым, в сущности, в каждом таком случае требовалось предполагать наличие чуда.
Все те, кто в течение десятилетий до появления дарвиновского труда пытались достигнуть сообразных с природой мировоззрения и принципов жизни, возымели живейшее ощущение возникновения нового направления мышления. Подобное ощущение в 1872 г. высказал Давид Фридрих Штраус в книге "Старая и новая вера": "Видно, куда следует идти, где на ветру весело развеваются флаги. Да, весело, и именно в смысле возвышенной духовной радости. Мы, философы и критические теологи, хорошо говорили, когда объявляли чудо излишним, упразднённым ; но наши безаппеляционные заявления оставались без последствий, ибо мы не показали ненужность чуда, так как не могли указать ту природную силу, которая могла бы заменить чудо в том месте, где оно было до сих пор необходимо. Дарвин указал на эту природную силу, это естественное поведение, природный процесс, он приоткрыл дверь, через которую счастливое потомство может навсегда выбросить чудо, чтобы никогда с ним не видеться. Каждый, знающий о том, сколь многое полагали на чудо, может рассматривать Дарвина как величайшего благодетеля рода человеческого".
Благодаря Дарвину и его идее целесообразности стало возможным мыслить себе понятие развития действительно естественным образом. У старого учения о включённости, преформации, согласно коему все возникающее присутствует уже ранее в скрытой форме (ср. стр.230-231 . I тома данной книги, учение Альбрехта фон Галлера о преформации - примеч. перевод.), были отняты последние надежды. Дарвиновское понимание процесса развития исключает возможность пребывания совершенного в лоне несовершенного. Ибо совершенство более высокого существа возникает в силу тех процессов, которые с предками этого существа попросту не имели ничего общего. Скажем так: сумчатые животные достигли определенной ступени развития. В форме сумчатых нет ровно ничего от более высокой совершенной формы. В ней заложена только способность непроизвольного изменения в процессе последующего размножения. Затем наступают отношения, которые не зависят от всяких задатков "внутреннего" развития формы сумчатых, но которые таковы, что из всех возможных видоизменений формы сумчатых не исключается полуобезьяна, лемур. В форме сумчатых столь же мало содержится форма полуобезьяны, лемура, сколь мало в направлении крутящегося бильярдного шара содержится тот путь, по которому он покатится, столкнувшись с другим шаром.
Нелегко давалось усвоение этого реформированного понятия развития. Вышедший из школы Гегеля, выдающийся, крайне проницательный и тонкий ум Фридрих Теодор Фишер (Vischer) писал в связи с этим еще в 1874 г.: "Развитие есть собственно последовательное развертывание (Herauswickeln) из одного семени, которое прогрессирует от опыта к опыту, пока не осуществится тот образ, который был заложен в семени как возможность, а затем найденная форма останавливается как пребывающее. Вообще каждое понятие тотчас начинает колебаться, как только мы представим себе, что типы, присутствовавшие на планете уже в течение тысячелетий, и прежде всего наш собственный человеческий тип, находятся в постоянной изменчивости. После этого мы не можем более дать надежную опору в нашей душе нашим мыслям, нашим мыслительным законам, нашим эмоциям, идеальным образом нашей фантазии, которые суть не что иное, как подражание формам известной нам природы. Все ставится под вопрос". А в другом месте того же сочинения мы читаем: "Мне довольно трудно поверить, что глаз происходит от зрения, ухо от слышания. И тот сильный акцент, который делается на селекционном отборе, не кажется мне убедительным".
Если бы спросили Фишера, представляет ли он себе, что в водороде и кислороде находится в зародыше вода, которая может быть получена из них, он, несомненно, ответил бы: нет, и в водороде, и в кислороде нет и следа присутствия воды; условия возникновения этого вещества возникают только в то мгновенье, когда кислород и водород при определенных обстоятельствах встречаются. Может ли это быть иначе, если из взаимодействия сумчатых животных с условиями внешнего бытия возникают полуобезьяны, лемуры? Почему эти последние должны уже как возможность, как образ скрываться в сумчатых животных, чтобы в один прекрасный день развиться из них? То, что возникает благодаря развитию, возникает внове без того, чтобы присутствовать ранее в какой-либо форме.
Рассудительные естествоиспытатели восприняли новое учение о целесообразности с не меньшей отзывчивостью, чем мыслители, подобные Штраусу. Не вызывает сомнений, что Герман Гельмгольц относится к числу тех, кто в 50-е и 60-е годы ХIХ в. выступал как представитель таких рассудительных естествоиспытателей. Он подчеркивал, что чудесная и все богаче раскрывающаяся перед растущей наукой целесообразность строения и органов живых существ требует сравнения жизненных процессов с человеческими действиями. Ибо эти последние представляют собой единственную разновидность явлений, которые имеют характер, подобный характеру органических феноменов. Более того, целесообразное устройство мира организмов для нашей способности суждения далеко превосходит то, что в состоянии создать человеческий интеллект. Не удивительно поэтому, что строение и деятельность живого мира пытаются отнести к интеллекту, далеко превосходяшему человеческий разум. "Поэтому, - говорит Гельмгольц, - до Дарвина можно было допустить только два объяснения органической целесообразности, которые, однако, указывают на вмешательство свободного интеллекта, интеллигенции в течение природных явлений. Либо, как в виталистической теории, предполагается непрерывное руководство жизненной души всеми жизненными процессами; либо для каждого вида существ приходится вернуться к наличию сверхъестественного разума, интеллигенции, благодаря которой они возникают… Дарвиновская теория содержит в себе одну существенно новую творческую мысль. Она показывает, что целесообразность образования организмов может возникнуть также помимо, какого бы то ни было вмешательства интеллигенции, разума, посредством слепого произвола закона природы. Это закон передачи по наследству от предков к потомству индивидуальных свойств; закон, который был издавна известен и признан и нуждался только в определенном ограничении". Гельмгольц полагает, что такое ограничение создается принципом естественного отбора в борьбе за существование.
Не менее, чем Гельмгольц, принадлежавший к числу тех осторожных ученых, И. Хенле сказал в одном из докладов: "Если опыты по искусственному отбору должны опираться на гипотезу Окена и Ламарка, то следует показать, как начинает природа, чтобы из самой себя организовать мероприятия, с помощью которых экспериментатор достигает своей цели. Эту задачу ставит перед собой Дарвин и исследует её с удивительным рвением и проницательностью".
Наибольшее воодушевление деяние Дарвина вызвало у материалистов. Им давно уже было ясно, что рано или поздно появится человек, который философски высветлит загроможденную, стремящуюся к одной коренной мысли область фактов. По их мнению, после дарвиновского открытия не заставит себя ждать победа мировоззрения, для которого это открытие имело принципиальное значение.
Дарвин как естествоиспытатель приступил к своей задаче. И поначалу он держался в ее рамках. В его основополагающей книге есть только скромные наметки той возможности, что его мысли смогут пролить свет и на основной вопрос мировоззрения, на вопрос об отношении человека к природе: "Я вижу в будущем открытое поле для гораздо более важных исследований. Психология должна будет, пожалуй, ….опираться на следующее положение: необходимость каждую духовную силу и способность приобретать постепенно. Много света требуется также для освещения происхождения человека и его истории". Этот вопрос о происхождении человека стал для материалистов, по выражению Бюхнера, прямо-таки сердечной наклонностью. В лекциях зимой 1866-1867 г. в Оффенбахе он говорил: "Следует ли теорию превращения распространять на наш собственный род, на человека или нас самих? Должны ли мы примириться с тем, что те же самые принципы или правила, которые вызвали к жизни остальные организмы, касаются также и нашего возникновения и происхождения? Или же мы, венец творения, составляем исключение?"
Естествознание со всей определенностью настаивает на том, что человек никоим образом не составляет исключения. Английский естествоиспытатель Хаксли в 1863 г. в своих "Свидетельствах в пользу позиции человека в природе" говорит, опираясь на точные анатомические исследования: "Критическое сравнение всех органов и их модификации в ряде обезьян приводит нас к одному и тому же результату, - что анатомические различия, отделяющие человека от гориллы и шимпанзе, не столь велики, как те различия, которые отделяют этих человекообразных обезьян от низших разновидностей обезьян". Можно ли перед лицом такого факта еще сомневаться в том, что естественное развитие, породившее посредством роста и размножения, посредством наследственности, изменчивости форм и борьбы за существование целый ряд органических существ, вплоть до обезьян, на том же самом пути произвело также и человека?
Основное воззрение в течение ХIХ в. все глубже проникало в естественнонаучные познания; им на свой лад был пронизан и Гёте, который со всей энергией противостоял мнению своих современников, что у человека в верхней челюсти не достает так называемой межчелюстной косточки. В то время думали, что все животные должны иметь эту косточку, а у человека она отсутствует. И на этом основании утверждали, что человек отличается от животных, имеет совсем иное строение. Сообразующийся с природой стиль мышления Гете требовал от него прилежно заняться анатомией ради устранения этого заблуждения. И когда цель его была достигнута, он с радостью пишет Гердеру о том, что он сделал нечто такое, что в высшей мере необходимо для познания природы: "Я сравнил … черепа животного и человека, напал на след, и смотри, она (кость - Е. Х.) имеется там! Только прошу тебя, не дай ничего заметить, ибо это должно оставаться в тайне. Это должно и тебя обрадовать сердечно; ибо это подобно замковому камню к человеку, вовсе не отсутствует, определенно имеется! Но как!"
Под влиянием таких представлений великий мировоззренческий вопрос об отношении человека к самому себе и к внешнему миру превратился в задачу: показать на естественнонаучном пути, каковы были те фактические процессы, которые постепенно привели к образованию человека. Тем самым изменилась точка зрения, с которой пытались объяснять явления природы. До тех пор, пока в каждом организме, а стало быть, и в человеке видели осуществление целесообразного строительного плана, нельзя было упускать из виду эту цель во всяком объяснении живых существ. Следовало подумать и о том, что в эмбрионе в зачатке содержится позднейший организм. Простертое на весь Универсум, это означает, что со своей задачей наилучшим образом справляется такое объяснение природы, которое показывает, как на ранних ступенях своего развития природа подготавливается к позднейшим стадиям и на вершине своего развития создает человека.
Современная идея развития отвергла всякую наклонность познания видеть позднейшее в раннем. Для нее позднейшее никоим образом не может находиться в предшествующем. Напротив, в ней постепенно возобладала установка в позднейшем искать раннее. Эта установка составила даже важный элемент принципа наследования. Можно говорить прямо-таки о повороте направления потребности объяснения. Большое значение этот поворот имел при образования мысли о развитии отдельного органического индивидуума, начиная от яйца до зрелого состояния, для так называемой зародышевой истории (онтогенез). Вместо того, чтобы обратить внимание, как в эмбрионе подготавливаются позднейшие формы, стали сравнивать формы, которые принимает организм в течение своего индивидуального развития от яйца до зрелости, с другими формами организмов. Уже Лоренц Окен идет по такому следу. В четвертом томе своей "Всеобщей истории природы для всех сословий" он пишет (с. 468): "В результате физиологических исследований я уже несколько лет назад пришел к выводу, что состояния развития цыпленка в яйце имеют сходство с различными классами животных, так что поначалу он как будто содержит лишь органы инфузории, а затем постепенно - полипов, губок, улиток и т. д. И наоборот, я должен был далее рассматривать также и классы животных как ступени развития, которые идут параллельно развитию цыпленка. Этот взгляд на природу требовал точнейшего сравнения тех органов, которые в каждом более высоком классе животных вновь приходят к другому, с теми, которые в цыпленке во время высиживания развиваются друг за другом. Разумеется, такой параллелизм нелегко контролировать полностью в столь сложных и труднодоступных наблюдению предметах. Но доказать, что он имеется в действительности, достаточно просто: с наибольшей ясностью это открывается на превращении насекомых, которые находятся не далее развития молоди, которое происходит на наших глазах и так медленно, что мы можем не спеша рассматривать и исследовать каждое эмбриональное состояние". Окен сравнивает состояние превращения насекомых с другими животными и находит, что гусеницы имеют большое сходство с червяками, а куколки - с раками. Из такого сходства гениальный ученый умозаключает: "Отсюда, нет сомнения, что здесь имеется поразительное сходство, которое подтверждает идею, что история развития в яйце есть не что иное, как построение истории творения классов животных". В натуре этого одухотворенного мужа была заложена способность предчувствовать великую идею на основе счастливого наблюдения. Для такого предчувствия ему не было нужды в полностью проверенных соответствующих фактах. Но в природе подобных угаданных идей заложено также то, что они не производят особого впечатления на работающих на ниве науки. Подобно комете блеснул Окен на немецком мировоззренческом небосклоне. Он принес с собой некоторое количество света. Из своего богатого идейного достояния он дал ведущие понятия для различных областей фактов. Однако его способ изложения фактических взаимосвязей имеет в себе нечто насильственное. Он работал на пике (вершине) без страховки. Это имело место и в случае упомянутого закона повторения определенных животных форм в зародышевом развитии других форм.
В противоположность Окену Карл Эрнст фон Бэр придерживался чисто фактической стороны, когда в 1828 г. в своей "Истории развития животных" он говорил о том, что Окен сделал своей идеей. "Эмбрионы млекопитающих, птиц, ящериц и змей и еще, пожалуй, черепах невероятно похожи на ранних стадиях как в целом, так и в развитии отдельных частей; настолько похожи, что часто эти эмбрионы можно различать лишь по их величине. У меня есть два заспиртованных эмбриона, названия которых я вовремя не проставил на банках; и я до сих пор не могу определить, к какому классу они принадлежат. То могут быть ящерицы, малые птицы или даже млекопитающие. Поразительное совпадение в образовании головы и туловища у этих животных. Конечности у них еще отсутствуют. Но будь они на месте, на первой ступени своего образования, они не могли бы ни чему нас научить, поскольку ноги пресмыкающихся и млекопитающих, крылья и ноги птиц, а также руки и ноги человека развиваются из одной и той же формы".
Такие факты зародышевой истории, онтогенеза должны были вызвать величайший интерес у тех мыслителей, которые в своих убеждениях склонялись к дарвинизму. Дарвин показал возможность изменения органических форм и на этом пути изменения установил возможность происхождения ныне живущих видов из первоначально немногочисленных или даже одного вида существ. И затем оказалось, что на ранних стадиях своего развития эти животные существа настолько похожи друг на друга, что их либо с трудом, либо вовсе невозможно отличить. И этот факт сходства, и идею происхождения видов Фриц Мюллер связал в органическое единство в глубокомысленной работе "За Дарвина" (1864 г.). Мюллер был одной из тех выдающихся личностей, которым для духовного дыхания было безусловно необходимо мировоззрение, сообразующееся с природой. Он и своими действиями бывал удовлетворен лишь тогда, если их мотивы ощущал столь же необходимыми, как природные силы. В 1852 г. Мюллер переселился в Бразилию. В течение 12 лет он был учителем в гимназии в Дестерро (на острове Санта Катарина неподалеку от побережья Бразилии). В 1867 г. он вынужден был оставить также и это место. Ему приходится с его новым мировоззрением уступить реакции, которая под влиянием иезуитов овладела представителями его профессии. Эрнст Геккель в "Йенском журнале по естествознанию" (XXXI, т. XXIV, 1897 г.) описал жизнь и деятельность Фрица Мюллера. Дарвин характеризовал его как "князя наблюдателей". И из множества его наблюдений возникла маленькая, но очень значительная работа "За Дарвина". В ней рассматривается отдельная группа органических форм, раки (крабы), в том духе, относительно которого Мюллер полагал, что он вытекает из мировоззрения Дарвина. Он показал, что ракообразные, в своем зрелом состоянии отличающиеся друг от друга, вылупаясь из яйца, полностью похожи друг на друга. Если предположить, что в смысле дарвиновского учения о происхождении видов формы раков развились из первобытной формы рака и что сходство этих животных на ранней стадии роста есть наследие их общей формы предков, тогда идея Дарвина соединяется с идеей Окена о повторении истории возникновения классов животных в развитии отдельной формы. Это воссоединение осуществляет также и Мюллер. Благодаря этому он ставит ранние формы одного животного класса в связь с позднейшими формами, которые через преобразование возникли из первых. То, что форма предков ныне живущих существ выглядела так или иначе, обусловило то, что это ныне живущее существо в определенное время своего развития выглядит так, а не иначе. По стадиям развития организмов можно познавать их предков; и характер последних обусловливает характер зародышевых форм. История рода и история зародыша (филогенез и онтогенез) взаимосвязаны в книге Мюллера как причина и следствие. Тем самым сделан новый шаг в дарвиновском идейном направлении. Значение этого продвижения не умаляется тем обстоятельством, что мюллеровы исследования ракообразных были впоследствии модифицированы исследованиями Арнольда Ланга.
Прошло только четыре года с момента появления книги Дарвина "Происхождение видов", когда Фриц Мюллер выпустил книгу в его защиту и поддержку. На отдельном классе животных он показал, как надлежит работать в смысле новых идей. Спустя семь лет после выхода "Происхождения видов", в 1866 г., вышла в свет книга, которая целиком была пронизана этим новым духом и которая с высокой позиции дарвинизма пыталась осветить взаимосвязь явлений жизни, - книга Эрнста Геккеля "Всеобщая морфология организмов". Каждая страница этой книги свидетельствует о великой цели: с помощью новых мыслей дать общую картину явлений природы. Из дарвинизма Геккель хотел построить мировоззрение.
Геккель старался сделать все возможное для нового мировоззрения и действовал в двух направлениях: с неослабевающим усилием он обогащал знание тех фактов, которые позволяли установить взаимосвязь природных существ и сил природы; вместе с тем он с железной последовательностью выводил из этих фактов идеи, которые могли удовлетворить человеческую потребность объяснения. Он пронизан непоколебимым убеждением, что для всех своих душевных потребностей человек может почерпнуть полное удовлетворение из этих фактов и идей. Ему на свой лад как Гёте в своей манере, было совершенно ясно, что природа действует по вечным, необходимым и до такой степени божественным законам, что и само Божество не в состоянии изменить их ни на йоту. Поскольку это было ему ясно, он относился с благоговейным почитанием к Божеству в вечных и необходимых законах природы, а также - в веществе, в котором эти законы развертываются. Подобно тому, как, согласно его воззрению, гармония с необходимостью взаимосвязывающихся законов природы удовлетворяет разум, так и чувствующему сердцу и этически и религиозно настроенной душе она (гармония - Е. Х.) предоставляет то, что они жаждут. В камне, лежащем на земле, выражается то же божественное, что и в цветке растения и в человеческом духе, формирующем драматический образ Вильгельма Телля.
Насколько ошибочно думать, что проникновение разума в господство природы посредством исследования её законов якобы разрушает чувство чудесных красот природы, - это с большой наглядностью демонстрирует деятельность Эрнста Геккеля. Некоторые подвергали сомнению способность разумного объяснения природы удовлетворять потребности души. На это следует сказать, что в тех случаях, когда человек в своем душевном мире терпит ущерб от познания природы, то происходит это не из-за познания, а благодаря самому человеку, когда его ощущения движутся в ложном направлении. Кто непредвзято идет по исследовательскому пути такого естествоиспытателя, как Геккель, тот с каждым шагом в познании природы чувствует также возвышение своего сердца. Анатомическое расчленение, микроскопическое исследование не только не разрушают ни одной из красот природы, но открывает неисчислимые красоты. Несомненно, в нашу эпоху происходит борьба между рассудком и фантазией, рефлексией и интуицией. Элен Кай (Key см. Эссе, Берлин изд. Фишер, 1899), весьма одухотворенная эссеистка, безусловно права, когда она усматривает в этой борьбе одно из важнейших явлений нашей цивилизации. Кто, подобно Геккелю, глубоко копает в недрах фактов и затем из этих фактов выносит мысли, с которыми смело взбирается на вершину человеческого познания, тот может только в объяснении природы найти примиряющую силу, "становя на колени поочередно одинаково сильных скакунов, рефлексию и интуицию" (Кай, 1899 г.). Почти одновременно с публикацией в 1899 г. своей "Мировой загадки", в которой Геккель с необычайной честностью излагает собственное мировоззрение, вытекающее из познания природы, он предпринимает издание серийного труда "Формы искусства природы", где он воссоздает картину неисчерпаемой полноты чудесных образований, рождающихся из лона природы и по красоте и многообразию далеко превосходящих "все формы, созданные искусством человека". Тот самый человек, который вводит наш рассудок в закономерность природы, направляет наше внимание на красоту природы.
Потребность приводить великие мировоззренческие вопросы в непосредственное соприкосновение с отдельными научными исследованиями привела Геккеля к одному из тех фактов, о которых Гёте сказал, что они четко фиксируют тот пункт, на котором природа добровольно преподносит основные идеи для своего объяснения. Этот факт открылся Геккелю благодаря тому, что он исследовал, в какой мере может быть плодотворной для всего животного мира старая мысль Окена, которую Фриц Мюллер применил к ракообразным. У всех животных, за исключением протистов, которые в течение всей жизни состоят из одной клетки, образуется из яйцеклетки, с которой существа начинают свое зародышевое развитие, чашечкообразное или кувшинкообразное тельце, так называемая гаструла. Этот кувшинкообразный зародыш и есть та животная форма, которую принимают в первую стадию своего развития все животные от губки вплоть до человека. Эта форма имеет только кожицу, рот и желудок. Имеются низшие растениеживотные, которые имеют только эти органы в течение всей своей жизни, т. е. не выходят за рамки кувшинкообразного зародыша. Этот факт Гегель истолковал в смысле теории развития. Форма гаструлы унаследована животными от их общих предков. Вероятно, миллионы лет назад существовал вымерший ныне вид животных, гастреи, которые по своему строению были похожи на живущих поныне низших растениеживотных: губок, полипов и т. д. Из этого животного вида развилось все то, что живет сегодня в многоразличных формах между полипами, губками и человеком. Все животные в ходе своего эмбрионального развития повторяли эту свою исконную форму.
Тем самым была получена идея невероятной силы. В мире организмов был обозначен путь от простого к сложному, совершенному. Простая животная форма развилась при определенных обстоятельствах. Один или множество индивидов этой формы сообразно условиям жизни изменяются в другую форму. То, что возникает благодаря изменчивости, наследуется затем потомством. Имеются уже формы двоякого рода. Старые, остановившиеся на первой ступени, и новые. Обе разновидности форм могут развиваться далее по различным направлениям и степеням совершенства. По истечении больших временных периодов, благодаря унаследованию возникших форм и новообразованиям на пути приспособления к условиям жизни, образуется множество видов.
Таким образом, для Геккеля проясняется связь того, что ныне происходит в мире организмов, с тем, что происходило в древнейшие времена. Если мы хотим объяснить для себя какой-нибудь орган в современном животном, то нам следует оглянуться на его предков, которые образовали этот орган в подобающих им жизненных условиях. Возникшее в силу естественной причинности на ранних стадиях эволюции наследуется до сих пор. Через историю рода проясняется развитие индивидуума. В родовом развитии (филогенез) находятся причины индивидуального развития (онтогенез). Этот факт Геккель высказывает в своем основном биогенетическом законе: "Короткий онтогенез или развитие индивидуума есть быстрое и сжатое повторение, лаконичное обобщение филогенеза или развития рода".
Тем самым из царства органического устраняется всякое толкование в смысле особенных целей, всякая теология в старом смысле. Оказались ненужными рассуждения о цели того или иного органа. Вместо этого стали искать причины, лежащие в основе его развития. Форма указывает не на свою цель, а на источник своего происхождения. Способ объяснения органического уподобился объяснению неорганического. Воду не рассматривают как цель кислорода, точно также не усматривают в человеке цель творения. Исследуют источник, фактические причины существ. Дуалистическое воззрение, утверждающее, что неорганическое и органическое объясняются по двум различным принципам, превратилось в монистическую манеру представления, в монизм, предлагающий единый способ объяснения для всей природы.
В значительных выражениях Геккель указывает на то, что благодаря его открытию был найден путь, на котором преодолевается всякий дуализм в вышеуказанном смысле слова. "Филогенез есть механическая причина онтогенеза. Одной этой фразой дана ясная характеристика нашей принципиальной монистической позиции по отношению к органическому развитию и от истины этого тезиса зависит в первую очередь истина теории гастреи. В будущем каждый естествоиспытатель должен будет решать "за" или "против" этого утверждения, не довольствуясь восхищением замечательными явлениями и желая постичь их значение. Это утверждение вместе с тем указывает на зияющую бездну между старой теологической и дуалистической морфологией и новой механической и монистической морфологией. Если физиологические функции наследственности и приспособления рассматриваются как единственные причины органического формообразования, то тем самым из области биогенеза устраняются всякие разновидности теологии, метафизический и дуалистический способы рассмотрения; так вырисовывается четкая противоположность между ведущими принципами. Либо существует прямая и казуальная взаимосвязь между онтогенезом и филогенезом, либо она не существует. Третьей альтернативы не дано! Либо эпигенез и происхождение видов, либо преформация и творение" (см том 1 стр 230-231). Геккель был философски мыслящей личностью. Поэтому он, усвоив дарвиновское мировоззрение, со всей энергией отстаивал вытекающее из этого мировоззрения умозаключение относительно происхождения человека. Он не мог удовлетвориться робким указанием Дарвина на этот "вопрос всех вопросов". Анатомически и физиологически человек не отличается от высших животных и, стало быть, имеет аналогичное им происхождение. С большой смелостью он защищал это мнение и следующие из него мировоззренческие позиции. Для него отпали все сомнения в том, что жизненные проявления человека, деяния его духа надо рассматривать под тем же углом зрения, как и структуры простейших живых существ. Рассмотрение низших животных, праживотных, - инфузорий и корненожек, убедило его в том, что также и эти животные имеют душу. В их движениях, в слабых намётках ощущения он распознал те жизненные проявления, которые нуждаются только в усилении, в усовершенствовании, чтобы стать сложными разумными и волевыми действиями человека.
Какие шаги должна сделать природа, чтобы от гастреи, первого высшего животного, жившего миллионы лет назад, придти к человеку? - Этот объемлющий вопрос поставил перед собой Геккель. Ответ на него был дан в его "Антропогенезе", вышедшем в свет в 1874 г. В первой части книги рассматривается зародышевая история человека, а во второй - история рода. Шаг за шагом показывается, как в последнем лежат причины первого. К такому труду, как "Антропогенезис" Геккеля, можно отнести слова, сказанные великим анатомом Карлом Гегенбауэром в его "Сравнительной анатомии" (1870) о том, что дарвинизм как теория с избытком воздал науке тем, что он дал ее методу ясность и достоверность. Благодаря дарвиновскому методу, по Геккелю, наука получила в дар теорию о происхождении человека.
Измерить во всём объёме то, что было сделано, можно только тогда, если посмотреть на оппозицию со стороны приверженцев идеалистического мировоззрения по отношению широкому применению Геккелем дарвиновских постулатов. Не нужно при этом обращать внимание на тех, кто в слепой вере в расхожее мнение выступал против "обезьяньей теории", или на тех, кто чувствовал угрозу утонченной нравственности вследствие забвения, "более чистого и возвышенного происхождения человека". Надо ориентироваться на тех, кто обладал действительной способностью к усвоению нового мировоззрения. Однако и им было трудно найти себя в новой истине. Они говорили себе: не отвергаем ли мы нашего разумного мышления, когда усматриваем его происхождение не во всеобщем разуме над нами, а под нами - в животном царстве? Такие мыслители ревностно указывали на те пункты, где геккелевское воззрение недостаточно подкреплялось фактами. И эти мыслители находили мощных союзников в числе естествоиспытателей, использовавших свое знание фактов для того, чтобы постоянно подчеркивать, где еще не хватает опыта для подтверждения выводов Геккеля. Типичным представителем и вместе с тем наиболее ярким выразителем этой позиции естествоиспытателей является Рудольф Вирхов. Противоположность Геккеля и Вирхова можно выразить примерно следующим образом: Геккель верит во внутреннюю последовательность природы, - о которой Гёте сказал, что она утешает в связи с человеческой непоследовательностью, - и говорит себе: если в некоторых случаях природный принцип верен, а в других случаях нам недостает опыта для подтверждения этой верности, то отсюда еще не следует, что мы должны покончить с развитием нашего познания; то, в чем нам сегодня еще отказывает опыт, может быть достигнуто завтра. Вирхов придерживается иного мнения. Он не уступает ни пяди земли для обоснования объемлющего принципа. Как будто он думает, что такой принцип может сделать кому-нибудь жизнь недостаточно чистой. Наибольшей остроты противоположность обоих мыслителей достигла на 50-м собрании немецких естествоиспытателей и врачей в сентябре 1877 г. Геккель читал там доклад "Современная теория развития по отношению к науке в целом".
В 1894 г. Вирхов почувствовал необходимость сказать следующее: "На пути спекуляции пришли к обезьяньей теории; с равным успехом можно было придти к слоновой или бараньей теории". Вирхов требует неопровержимых доказательств для этих воззрений. Но как только появляется нечто, выступающее звеном в цепи аргументов, Вирхов любыми средствами старается это дискредитировать.
Подобным звеном в цепи доказательств послужили остатки костей, обнаруженные на о. Ява в 1894 г. Эженом Дюбуа. Они состояли из черепной коробки, бедренной кости и нескольких зубов. На Лейденском зоологическом конгрессе завязалась интересная дискуссия по поводу этой находки. Трое из двенадцати зоологов высказали мнение, что это кости обезьяны, трое других полагали, что они принадлежали человеку, а шестеро остальных склонялись к тому, что кости свидетельствуют скорее о переходной форме между человеком и обезьяной. Дюбуа блестяще показал, в каком отношении к современным обезьянам и современному человеку находится существо, кости которого послужили предметом дискуссии. Естественнонаучная теория эволюции должна уделять особое внимание таким переходным формам. Они заполняют пробелы между многочисленными формами организмов. Всякая подобная промежуточная форма представляет новое доказательство родства всего живого. Вирхов возражал против мнения о том, что остатки костей принадлежат такой промежуточной форме. Сначала он сказал, что череп принадлежал обезьяне, а бедренная кость человеку. Но сведущие палеонтологи констатировали принадлежность костей одному существу. Вирхов в защиту своего мнения сослался на то, что на бедренной кости явственно виден след заболевания, излечить которое мог только человек. Палеонтолог Марш возразил на это, что подобные наросты встречаются и на костях диких обезьян. На следующее замечание Вирхова о том, что глубокая шейка между верхней кромкой глазниц и нижней крышкой черепа предполагаемого промежуточного существа свидетельствует о его обезьяньей принадлежности, естествоиспытатель Неринг возразил, что то же самое образование обнаружено Сантосом на человеческом черепе в Бразилии. Эти возражения Вирхова проистекали из того же настроения, которое заставляло его и в знаменитых черепах неандертальца находить лишь болезненные ненормальные образования, тогда как сторонники Геккеля усматривали здесь промежуточную форму между обезьяной и человеком.
Никакими аргументами нельзя было подорвать веру Геккеля в правоту его способа представления. С неослабевающим усилием развивал он науку, исходя из достигнутой точки зрения и действовал при этом через популярное преподнесение своего воззрения на природу общественному сознанию. В своем "Систематическом филогенезе, проекте естественной системы организмов на основании происхождения видов" (1894-1896 гг.) он пытался с научной строгостью показать природное родство организмов. В своей "Естественной истории творения", выдержавшей 11 изданий с 1868 по 1908 гг., он дал общедоступное изложение своих воззрений. В своих исследованиях, ориентированных на монистическую философию ("Мировая загадка") он дал в 1899 г. обзор собственных натурфилософских идей, энергично развернул на все стороны следствия своих основных идей. Наряду со всеми этими работами он опубликовал исследования, глубоко затрагивающие философские принципы и показывающие детальные познания автора во всех специальных отраслях.
По убеждению Геккеля, "Свет, исходящий из монистического мировоззрения, должен рассеять тяжелые тучи неведения и суеверия, покрывшие непроницаемой тьмой важнейшую из всех проблем познания, - вопрос о происхождении человека, о его истинном существе и его отношении к природе". В этом смысле говорил он в своей речи "О нашем современном познании происхождения человека" на IV международном конгрессе зоологов 26 августа 1898 г. в Кембридже. В какой мере его мировоззрение образует связь между религией и наукой, Геккель проникновенным образом показал в своей вышедшей в 1892 г. работе "Монизм как связь между религией и наукой. Вероисповедание естествоиспытателя".
Если сравнить Геккеля с Гегелем, то со всей остротой выявится различие мировоззренческих интересов в обе половины XIX в. Гегель целиком живет в идее и черпает из естественнонаучных фактов лишь постольку, поскольку это требуется для иллюстрации его идеальной картины мира. Всеми фибрами своего бытия Геккель укореняется в мире фактов и извлекает из него ту только сумму идей, к которым этот мир фактов с необходимостью принуждает. Гегель всегда стремится показать, как все существа устремлены к тому, чтобы в конечном счете достигнуть в человеческом духе вершины своего становления; Геккель же старается доказать, что сложнейшие человеческие структуры редуцируются к простейшим истокам бытия. Гегель объясняет природу из духа; Геккель выводит дух из природы. Можно поэтому говорить о повороте направлений мышления в течение XIX столетия. В немецкой духовной жизни этот поворот ориентаций мышления произвели Штраус, Фейербах и др.; в материализме возобладало новое, радикальное направление, нашедшее в мыслительном мире Геккеля строгое методически-естественнонаучное выражение. Ибо значительно у Геккеля то, что вся его исследовательская деятельность пронизана философским духом. Он работает, вовсе не ориентируясь на результаты, которые по каким-либо соображениям могут стать целями мировоззрения или философского мышления; но процедура его является философской. Наука у него непосредственно проявляет характер мировоззрения. Весь способ его воззрения на вещи делает его исповедником радикальнейшего монизма. С одинаковой любовью смотрит он на дух и на природу. Поэтому он в состоянии еще открывать дух в простейших живых существах. Более того, он обнаруживает следы духовного присутствия в массиве неорганических частиц. "Всякий атом, - говорит он, - обладает неотъемлемой суммой силы и в этом смысле является одушевленным. Без предположения некоторой атомной души невозможно объяснить самые заурядные и общеизвестные явления химии. Удовольствие и неудовольствие, вожделение и отвращение, притяжение и отталкивание должны быть присущи всей массе атомов; ибо движения атомов, возникающие при образовании и распаде всякого химического соединения, становятся понятными лишь в том случае, если мы усматриваем в них наличие ощущения
и воли, и в принципе единственно на этом зиждется общепринятое химическое учение об избирательном родстве". И он прослеживает действие духа вплоть до атома, а материально-механическое свершение - вплоть до возвышенных духовных достижений. "Дух и душа представляют собой не что иное, как те силы человеческие, которые неразрывно связаны с нашим телом. Подобно тому, как сила движения нашей плоти связана с элементом мускульной формы, так мыслительная сила нашего духа неотделима от элемента формы мозга. Наши духовные силы суть только функции этой части тела, как всякая сила является функцией материального тела".
Не следует, однако, смешивать эту манеру представления с той туманно-мистической манерой приписывания каждому существу природы некоей души, более или менее напоминающей человеческую душу. Геккель является непримиримым противником мировоззрения, которое перемещает во внешний мир человеческие свойства и деятельности. С недвусмысленной ясностью он неоднократно порицал антропоморфизм, очеловечивание природы. Если он приписывал одушевленность неорганической массе или простейшим организмам, то подразумевал при этом не более чем сумму проявлений силы, которую мы в них наблюдаем. Он строго придерживался фактов. Ощущение и воля отнюдь не являются для него какими-то мистическими душевными силами, но они исчерпываются в том, что мы воспринимаем как притяжение и отталкивание. Он вовсе не говорит: притяжение и отталкивание суть собственно ощущение и воля, но указывает, что на низшей ступени притяжение и отталкивание суть то, что на высшей ступени суть ощущение и воля. Развитие не является просто развертыванием высшей ступени духовного из низшего, уже заключающего в себе высшее, но представляет собой действительное возвышение к новому образованию (см. 231-231стр. 1 тома), возвышение притяжения и отталкивания до уровня ощущения и воли. Это основное воззрение Геккеля в некотором смысле согласуется с гётевским, выраженным следующим образом: реалтзация его природоведения означало для него познание "двух маховых колес всей природы", полярности и возвышения, причем "первое относится к материи, поскольку мы мыслим её (природу) материальною, а возвышение, напротив, принадлежит природе, поскольку мы мыслим ее духовною. Полярность осуществляется в непрестанном притяжении и отталкивании, а возвышение - в постоянном восхождении. Но поскольку материя не обходится без духа, а дух без материи, то и материя способна возвышаться, так же как дух не отказывает себя в том, чтобы притягивать и отталкивать ".
Сторонник подобного мировоззрения может позволить себе довольствоваться выведением фактически имеющихся в мире вещей и процессов друг из друга. Идеалистические мировоззрения нуждаются для объяснения происхождения вещи или процесса в сущностях, пребывающих вне сферы фактического. Геккель объясняет возникающую в ходе животного развития зародышевую форму бокальца из жившего некогда организма. Идеалист ищет идеальные силы, под влиянием которых развивающийся зародыш становится гаструлой. Монизм Геккеля извлекает все то, в чем он нуждается для объяснения действительного мира, также из этого действительного мира. Он придерживается царства действительного в наблюдении, чтобы увидеть, как вещи и процессы объясняют друг друга. Его теории служат ему не для того, чтобы к фактическому подыскивать еще что-то высшее, какое-то идеальное содержание, объясняющее действительное, а для того, чтобы постигать саму взаимосвязь фактического. Фихте, идеалист, вопрошал об определении человека. При этом он имел в виду нечто, не исчерпывающееся в формах фактического, действительного; он имел ввиду нечто такое, что разум присоединяет к фактически данному бытию; нечто такое, что более ярким светом освещает реальное существование человека. Геккель, монистический наблюдатель мира, вопрошал о начальном происхождении человека и при этом он подразумевал реальное начальное происхождение низших сущностей, из которых в ходе фактических процессов развивался человек.
Характерно, как Геккель обосновал одушевленность низших живых существ. Идеалист прибегнул бы к умозаключениям. Он следовал бы требованиям логики. Геккель же полагается только на то, что он видел. "Каждый естествоиспытатель, который, подобно мне, долгие годы наблюдал жизнедеятельность одноклеточных простейших, будет позитивно убежден, что также и они наделены душой; также и эта клеточная душа состоит из суммы ощущений, представлений и волений; ощущение, мышление и воление наших человеческих душ отличаются (от тех) только по степени развития". Идеалист приписывает материи дух, ибо он не может позволить себе думать, что из бездуховной материи возникает дух. Он полагает, что происходит отрицание духа, если духу не позволяют присутствовать там перед тем, как он оказался в наличии, то есть в тех формах бытия, где еще нет для него никакого органа, мозга. У мониста ход идей иной. Он не может себе позволить говорить о каком-либо бытии, которое как таковое не выявляет также и внешне. Он не может приписывать вещам двояких свойств: такие, которые действительно имеются и проявляются в них и таких, которые присутствуют в них тайно, проявляясь только на высших ступенях развития этих вещей. Для него существует лишь то, что он наблюдает и ничего больше. И если наблюдаемое развивается дальше и в ходе этого развития поднимается к большему совершенству, то позднейшие формы существуют только в тот момент, когда они действительно обнаруживают себя.
С какой легкостью геккелевский монизм в этом направлении приводит к недоразумениям, - показывают возражения одухотворенного Варфоломея фон Карнери, который вместе с тем достиг чрезвычайно много именно в создании этики данного мировоззрения. В своем труде "Ощущение и сознание. Монистическое размышление" (1893 г.) он полагает, что суждение: "нет духа без материи, но и материи без духа" дает нам право распространять данный вопрос на растения, да и на ближайшую скалу, приписывая им дух. Однако очевидно, что из-за этого возникает путаница: И все-таки нельзя не видеть, что только благодаря деятельности клеток серой коры головного мозга возникает сознание. "Убеждение в том, что не существует духа без материи, т. е. что всякая духовная деятельность опирается на деятельность материальную, вслед за прекращением которой оканчивается и она, - это убеждение подкрепляется опытом, тогда как никакой опыт не указывает на то, что материя вообще связана с духом". Кто наделяет душой материю, которая не обнаруживает никакого духа, тот подобен тому, кто приписывает способность показывать время не механизму часов, а уже самому металлу, из коего сделаны часы.
Если правильно понимать геккелеву концепцию, то замечание Карнери не опровергает ее. Прочность этой концепции гарантируется тем обстоятельством, что она строго придерживается наблюдения. В своих "Мировых загадках" Геккель говорил: "Я сам никогда не выступал с гипотезой сознания у атомов. Напротив, я со всей силой подчеркивал, что элементарные психические деятельности ощущения и воли, которые можно приписать атомам, я представляю себе бессознательными". Геккель настаивает только на том, чтобы в объяснении явлений природы не было прыжков, чтобы сложный способ проявления духа посредством мозга прослеживался вплоть до простейших процессов притяжения и отталкивания масс. Важнейшим событием в современной науке Геккелю представляется открытие мыслительного органа Паулем Флехсигом. Он констатировал, что в коре головного мозга расположены четыре области центральных органов чувств, четыре "сферы внутренних ощущений", - сфера чувства тела, сфера обоняния, сфера зрения и сфера слуха. Между этими четырьмя очагами чувств находятся очаги мышления, "реальные органы духовной жизни", которые "являются высшими инструментами душевной деятельности, опосредующими мышление и сознание… Эти четыре мыслительных очага, которые благодаря сложной и разветвленной нервной системе выделяются из окружающих их зон чувств, суть настоящие мыслительные органы, единственные органы нашего сознания. В последнее время Флехсиг показал, что в одной части этих органов имеются чрезвычайно развитые структуры, полностью отсутствующие у остальных млекопитающих и объясняющие превосходство человеческого сознания" ("Мировые загадки", с. 212 нем. изд.).
Отсюда достаточно ясно следует, что, в отличие от идеалистических мыслителей, Геккель отнюдь не предполагал наличие духа уже на низших ступенях материального бытия, чтобы затем вновь обнаружить его на высших ступенях. Напротив, он старался идти по пути наблюдения простых явлений, чтобы затем показать, как деятельность материи, которая на примитивном уровне обнаруживается как притяжение и отталкивание, поднимается к высшим духовным деятельностям.
Не будучи удовлетворён всеобщей закономерностью, охватывающей природные и духовные явления, Геккель не ищет всеобщего духовного принципа, однако для своих нужд он вполне обходится этой всеобщей закономерностью. Закономерность, проступающая в духовных функциях, по его мнению, та же, что и проявляющаяся в притяжении и отталкивании массы частиц. Если он говорит об одушевленности атомов, то это имеет совершенно иное значение, чем, если это делает сторонник идеалистического мировоззрения. Последний исходит из духа и распространяет представления, почерпнутые в рассмотрениях духа, на простейшие отношения атомов, если он мыслит их себе одушевленными. Он, стало быть, объясняет явления природы, отправляясь от сущностей, которые он сам первоначально в эти явления привносит. Геккель отправляется от рассмотрения простейших явлений природы и прослеживает их вплоть до возникновения духовных деятельностей. Он, следовательно, объясняет духовные явления из законов, которые он наблюдает на простейших явлениях природы.
Геккелева картина мира могла возникнуть в такой душе, наблюдение которой простирается только на процессы и существа природы. Такая душа желает понять внутреннюю взаимосвязь этих процессов и существ. Ее идеалом будет созерцание того, что эти процессы и существа скажут сами о своем становлении и взаимодействии; такая душа строго отклоняет всё, что может быть привнесено извне для объяснения событий и последствий. Подобный идеал согласуется с природой в целом таким же образом, как, например, объяснение механизма часов относится к часам. Ибо тогда нет нужды знать что-либо о часовщике, о его способностях и мыслях, теснящихся в его голове во время изготовления часов. Сложно понять ход часов, если знаешь одни механические законы взаимодействия их частей. В рамках некоего целого можно найти все, что требуется для объяснения хода часов. Можно даже сказать, что часы как таковые невозможно объяснить, если прибегнешь к иному способу рассмотрения. - Если, например, помимо механических сил и законов вообразить себе еще действие особенных духовных сил, которые движут стрелки часов по ходу движения Солнца. Такие придуманные силы в природных явлениях Геккель усматривал в особенной жизненной силе или в силе, вырабатывающей в существах некую "целесообразность". Он не желает думать о природных процессах ничего иного, кроме того, что они сами высказывают во время их наблюдения. Его мыслительное построение возникает из подслушивания природы. В развитии мировоззрений это мыслительное строение, возникшее в лоне естественной науки, противостоит гегелевскому мировоззрению, создающему мыслительную картину не из природы, а исключительно из души. Если гегелевское мировоззрение говорит: самосознающее "я" обретает себя, когда имеет в себе чистое мыслительное переживание, то геккелевское мировоззрение могло бы возразить на это следующее: это мыслительное переживание есть результат природных процессов, их высшее произведение. И если гегелевское мировоззрение не чувствует удовлетворенности таким аргументом, то геккелевское мировоззрение могло бы потребовать: покажите мне такое внутреннее мыслительное переживание, которое не было бы зеркалом того, что происходит вне мыслей. В таком случае философия должна была бы показать, как мысль оживает в душе и действительно может свидетельствовать о мире, который и вправду представляет собой не просто отблеск внешнего мира. Мысль, которая только мыслится, не может быть противопоставлена геккелевскому воззрению на природу. Здесь можно прибегнуть к сравнению: в часах тоже нельзя найти ничего такого, что указывало бы на личность и т. п. часовщика. Геккелево воззрение на природу показывает, что покуда просто противостоишь природе, о ней нельзя высказать ничего, кроме того, что говорит о себе она сама. В этом отношении нельзя не увидеть значительности данного природовоззрения в ходе мировоззренческой эволюции. Оно доказало, что философия должна создать для себя поле деятельности за пределами замыкающихся на природу мыслей, а именно: поле, лежащее в самосозидающей сфере мыслительной жизни. Она должна сделать шаг, который выводит её выше Гегеля, как указывалось в предыдущей главе. Она не может далее пользоваться тем же методом, который оставляет её в том поле, где находится естествознание. Гегель не имел ни малейшей потребности хотя бы в малом уделить внимание подобному шагу в философии. Его мировоззрение дает возможность мыслям оживать в душе, но оживать лишь в той мере, в какой их жизнь побуждается наблюдением процессов природы. То, что мысль может творить как картину мира, если она оживает в душе без этого побуждения, - это ведет к более высокому мировоззрению, нежели геккелевская картина природы. Можно ведь выйти за пределы того, что говорят сами часы, если, например, пожелать ознакомиться с чертами лица часового мастера. Поэтому нет никакого основания утверждать, что воззрение Геккеля на природу должно говорить о самой природе иначе, чем говорит Геккель, когда преподносит то, что он позитивно наблюдал в процессах и существах природы.
МИР КАК ИЛЛЮЗИЯ
Наряду с мировоззренческим течением, которое посредством мыслей о развитии пытается достичь полного единства в понимании явлений природы и духа, протекает еще одно, которое восстанавливает эту противоположность в радикальнейшей форме. Также и это течение возникло из лона естественной науки. Его сторонники вопрошали себя: на что мы собственно опираемся, когда из наблюдения с помощью мышления строим мировоззрение? Мы видим, слышим и осязаем телесный мир с помощью наших органов чувств. Мы размышляем далее над тем, что сказали нам чувства об этом мире. Мы, следовательно, создаем свои мысли по свидетельству наших чувств. Но истинны ли показания наших чувств? Спросим наблюдение. Глаз доносит до нас световые явления. Мы говорим: некое тело посылает нам красный свет, если глаз ощущает красное. Но глаз передает нам световое ощущение также и в других случаях. Если по глазу легко ударить, нажать на него, пропустить через голову электрический ток, то глаз также возымеет световое ощущение. Таким образом, даже в тех случаях, когда мы ощущаем какое-либо тело как светящееся, в этом теле может происходить нечто такое, что не имеет ничего общего с нашим ощущением света: но глаз, тем не менее, даёт нам свет. Физиолог Йоханнес Мюллер (1801 - 1858) сделал отсюда умозаключение: то, что ощущает человек, зависит не от внешних процессов, а от человеческой организации. Наши нервы сообщают нам ощущения. Так мы ощущаем не нож, который нас режет, а состояние наших нервов, которое представляется нам болевым; так же, если нам является свет, мы ощущаем не какой-то процесс во внешнем мире, а как состояние нашего зрительного нерва. Вовне может происходить, что угодно: глазной нерв трансформирует этот разыгрывающийся вне нас процесс в световое ощущение. "Ощущение не есть подводка некоторого качества или состояния внешнего тела к сознанию; нет, - это подведение к сознанию некого качества, некого состояния наших нервов, обусловленного внешней причиной". Этот закон Йоханнес Мюллер назвал специфическими энергиями органов чувств. Будь это справедливо, мы не имели бы в наших наблюдениях ничего от внешнего мира и довольствовались бы суммой наших собственных состояний. То, что мы воспринимаем, не имеет ничего общего с внешним миром, это произведение нашей собственной организации. В сущности, мы воспринимаем лишь то, что находится в нас самих*.
*(Читатель не должен выносить отсюда преждевременное суждение о мировоззрении великого физиолога. Современник и ученик Фихте, Мюллер воспринял у Фихте идею "я" и применил ее в своем учении об ИНТЕНЦИИ. Интенцией он называет волевую деятельность как в восприятии, так и в движении человека, но также - направленную деятельность фантазии и мышления. По его наблюдению, интенция исходит "как бы из ничего" и "подобно Протею" зарождается из средоточия, которое находится по ту сторону внутренней границы, вплоть до которой проникает научный анализ восприятия и собственного движения. Подобной Протею он называет эту силу потому, что она проявляется в различных человеческих способностях и самым различным образом. По ту сторону внутренней границы, за которой, теснясь наружу, интенция проявляется как воля к вниманию, действию и т. п., - там находится интенция, центр фихтевской идеи Я. Противоположность интенции - автоматизм в восприятии, представлении и мышлении. Интенция - нацеленное движение, доступное только человеку или непосредственное откровение духовного Я, позволяющего возникать интенции "как будто из ничего". Современники Мюллера, подпавшие сильному влиянию позитивизма Конта, оставались глухи к тем субтильным душевным ощущениям и наблюдениям, которые вытекали из общения с философией Фихте и Гегеля и формировались в утонченные понятия мюллерова учения об интенции. Поэтому в истории науки отношение Мюллера к Фихте осталось незамеченным и его рассматривают лишь как автора "закона специфических энергий чувств", существенно измененного Гельмгольцем. Для нас забытое учение Мюллера имеет колоссальное значение. - примечание переводчика, Е. Хорина, см. также Лауенсбейн)
Выдающиеся естествоиспытатели усматривали в подобных мыслях неопровержимое основание своего мировосприятия. Герман Гельмгольц (1821-1894) нашел, что в этих мыслях в естествознание перешла кантовская мысль о том, что все наши познания касаются не внешних вещей, а только процессов в нас самих. Он полагал, что мир наших ощущений дает нам лишь знаки относительно процессов, происходящих в телах внешнего мира. "Я почел своим долгом сформулировать отношение между ощущением и его объектом таким образом, что истолковал ощущение только как знак воздействия объекта. Существо знака выражается в том, что для одинаковых объектов подходит один и тот же знак. В остальном нет никакой нужды в сходстве между ним и его объектом, как не требуется сходства между произносимым словом и предметом, который мы им обозначаем. - Мы не можем называть нами чувственные впечатления образами, т. е. образ передает подобное через подобное. В статуе мы передаем телесную форму через телесную форму. В рисунке - перспективный вид предмета через подобный ему образ, в картине краску краской". Ещё сильнее, чем картины от изображаемого, должны отличаться наши ощущения от того, что происходит во внешнем мире. В нашей чувственной картине мира мы имеем дело не с чем-то объективным, но - с всецело субъективным, с тем, что мы сами построили из нас самих на основе воздействий никогда не проникающего в нас внешнего мира.
Этой манере представления, с другой стороны, выступает навстречу рассмотрение чувственных явлений с точки зрения физики. Звук, который мы слышим, указывает нам на некоторое тело во внешнем мире, части которого приведены в состояние определенного движения. Натянутая струна звучит, и мы слышим тон. Струна приводит воздух в колебания, они распространяются, достигают нашего уха: нам сообщается ощущение тона. Физик исследует законы, согласно которым движутся вещественные частицы вовне, когда мы слышим тот или иной тон. Говорят, что субъективное ощущение тона покоится на объективном движении вещественных частиц. Подобные же отношения усматривает физик по отношению к световым ощущениям. Также и свет покоится на движении. Только движение это передается нам не колеблющимися частицами воздуха, а колебаниями эфира, того утонченного вещества, которое наполняет все мировое пространство. Посредством всякого самосветящегося тела эфир приводится в состояние волнообразных колебаний, которые распространяются вплоть до сетчатки глаза и возбуждают зрительный нерв, вызывающий в нас ощущение света. То, что в нашей картине мира представляется светом и цветом, в пространстве вовне является движением. Шлейден выражает этот взгляд следующими словами: "Свет вне нас в природе есть движение эфира, которое может быть быстрым или медленным, принимать то или иное направление, но, разумеется, нет никакого смысла говорить о светлом или темном, красном или зеленом движении: короче, вне нас, ощущающих существ, нет ничего светлого и темного, никаких цветов".
Итак, физик вытесняет цвета и свет из внешнего мира, т. к. он находит в них только движения; физиолог чувствует себя вынужденным принять их (цвета и т. п.) в свою душу, так как считает, что нерв показывает лишь свое собственное состояние, когда он чем-нибудь возбуждается. Резко и определенно высказывает это мировоззрение французский философ Ипполит Тэн (1828 - 1893) в своей книге "Рассудок"( немецкое издание Бонн, 1880). Внешнее восприятие является, по его мнению, настоящей галлюцинацией. Галлюцинирующий, который в трех шагах от себя видит череп, имеет точно такое восприятие, как и человек, воспринимающий световые излучения действительного черепа. В нас имеется один и тот же внутренний фантом, - безразлично, видим ли мы реальный череп или имеем галлюцинацию. Единственное отличие одного восприятия от другого состоит в том, что в одном случае наша рука шарит в пустоте, а в другом встречает сопротивление твердого предмета. Осязание, стало быть, подкрепляет зрение. Но является ли это подкрепление таковым, что через него передается правдивое свидетельство? То, что справедливо для одного чувства, справедливо и для другого чувства. - Также и осязательные ощущения являются галлюцинациями. Анатом Хенле выразил это воззрение в своих "Антропологических докладах" (1876): "Все то, благодаря чему мы как будто получаем вести о внешнем мире, суть формы сознания, к которым внешний мир относится только как побуждающая причина, как раздражение в смысле физиологии. Внешний мир не имеет цветов, звуков, вкусовых ощущений; то, что он действительно имеет, мы переживаем окольным путем или вовсе не переживаем. То, что там происходит, когда возникает какое-либо ощущение, мы понимаем из его отношения к другому ощущению. Так, например, звук, т. е. колебания камертона, мы видим глазами и ощущаем пальцами. Сущность многих раздражений, например, раздражение обоняния, недоступно нам и по сей день. Количество свойств материи определяется количеством и остротой чувств. У кого атрофирован орган чувств, для того полностью утрачивается целая группа свойств. Кто располагает развитым органом чувств, тот улавливает качества, которые отсутствуют для нас, как цвета для слепых".
Обзор литературы по физиологии из второй половины XIX в. свидетельствует о том, что это воззрение на якобы субъективную природу образа восприятия захватило широкие круги. Мы сталкиваемся там с вариациями одной и той же мысли, которую высказал И. Розенталь в "Общей физиологии мускулов и нервов" (1877): "Ощущения, получаемые от внешних впечатлений, зависят не от природы этих впечатлений, но от природы наших нервных клеток. Мы ощущаем не то, что воздействует на наше тело, а лишь то, что происходит в нашем мозгу".
Гельмгольц в "Физиологической оптике" дает представление о том, насколько наша субъективная картина мира является знаком объективного внешнего мира. "Бессмысленно поднимать вопрос о том, является ли киноварь действительно такой же красной, какой мы ее видим или это лишь обман чувства. Ощущение красного является нормальной реакцией нормально образованного глаза на отражаемый киноварью свет. Дальтоник увидит киноварь черной или грязновато желтой; также и в этом случае имеет место правильная реакция особенно организованного глаза. Человеку тогда нужно только знать, что его глаз устроен иначе, чем у других людей. Сами по себе ощущения не могут отличаться друг от друга мерой истинности, хотя большинство людей видят красный цвет. Вообще же красный цвет киновари существует лишь постольку, поскольку его позволяют увидеть одинаково устроенные глаза большинства людей. С тем же правом киноварь может быть черной для людей, слепых к красному цвету. Вообще отражаемый киноварью свет нельзя назвать красным, - он является таковым лишь вследствие определенного устройства глаза. - Он предстанет чем-то иным, если мы примем к сведению, что волны отражаемого киноварью света имеют определенную длину. Это суждение, которое мы можем вынести безотносительно к особенной природе нашего глаза и которое тоже имеет в виду только отношения субстанции и различных систем эфирных волн".
Очевидно, что для подобного воззрения совокупность мировых явлений распадается надвое: на мир состояний движения, не зависимых от особенной природы нашей способности восприятия, и мир субъективных состояний, имеющих место только внутри воспринимающих существ. Дюбуа-Раймон с особенной четкостью изложил это физиологическое воззрение в докладе "О границах естествознания" на 45 Собрании немецких естествоиспытателей и врачей в Лейпциге 14 августа 1872 г. Естествознание есть возвращение воспринятых нами процессов и явлений к движению мельчайших вещественных частиц или "разложение природных процессов в механику атомов". Ибо "фактом психологического переживания является то, что там, где это разложение удается", наша потребность в объяснении полностью удовлетворяется. Далее, наши нервная система и мозг имеют также телесную природу. Происходящие в них процессы могут быть также и только процессами движения. Если звуковые или световые колебания достигают моих органов чувств, а затем оказываются в мозгу, то и здесь нельзя усмотреть ничего кроме движения. Я могу только сказать: в моем мозгу происходит процесс движения. И при этом я ощущаю, например, "красное". Ибо если бессмысленно говорить о киновари, то столь же бессмысленно движение частиц мозга называть светлыми или темными, зелеными или красными. "Глухим и темным, т. е. лишенным свойств" представляется мир для мировоззрения, добытого путём естественнонаучным рассмотрения, которое "вместо звука и света признает только колебания некого первовещества, ставшего бескачественной, тут весомой, там невесомой материей. Моисеево "Да будет свет!" физиологически несостоятельно. Свет возник лишь тогда, когда первая красная глазная точка инфузории смогла впервые различать между светом и тьмой. Без этой зрительной и без этой слышащей субстанции мир, сияющий красками и наполненный звуками, явился бы темным и немым" ("Границы естествознания", с. 16). Итак, согласно этому воззрению, темный и немотствующий мир благодаря процессам в нашей зрительной и слуховой субстанции преобразуется в мир, исполненный красок и звуков. Темный и немой - это телесный, а красочный и многозвучный - душевный мир. В силу чего из первого возникает второй мир? Благодаря чему из движения возникают ощущения? Здесь, как полагает Дюбуа Раймон, обнаруживается для нас "граница естествознания". В нашем мозгу и во внешнем мире имеются только движения; в нашей душе возникают ощущения. И никогда не удается понять, как одно возникает из другого. "При поверхностном рассмотрении, правда, может показаться, будто мы можем понять некоторые духовные процессы и наклонности благодаря знанию материальных процессов мозга. Я отношу к этому главным образом память, течение и ассоциации представлений, следствия упражнений, специфические таланты и т. п. Уже первое размышление показывает, что это заблуждение. Только о некоторых внутренних условиях духовной жизни, которые благодаря чувственным впечатлениям довольно равнозначны с внешними, мы можем кое-что узнать, но не о возникновении духовной жизни благодаря этим условиям. - Какая мыслимая связь между определенными движениями определенных атомов в моем мозгу, с одной стороны, а с другой - с изначальным для меня, не определяющимся далее, неопровержимым фактом: я чувствую боль, чувствую удовольствие, вкушаю сладкое, обоняю аромат розы, слышу звук органа, вижу красное и непосредственно отсюда вытекает достоверность: стало быть, я есмь? Всегда и абсолютно непостижимым останется для нас, что некоторое число атомов углерода, водорода, азота, кислорода и т. п., не являются безразличными в отношении того, как они располагаются и движутся, как они располагались и двигались, и как они будут располагаться и двигаться ". Для познания не находится никакого моста от движения к ощущению: это вероисповедание Дюбуа-Раймона. Из движения в материальном мире мы не попадем в душевный мир ощущений. Мы знаем, что благодаря движущейся материи возникает ощущение, но мы не знаем, однако, как это происходит. Но также и в мир движения мы приходим, не выходя за пределы движения. Для наших субъективных восприятий мы можем, правда, принять определенные формы движения, ибо по течению восприятий мы можем заключить о течении движений. И все же мы не имеем никакого представления о том, что движется там в пространстве. Мы говорим: движется материя. Мы прослеживаем ее движения по проявлениям наших душевных состояний. Но поскольку мы никогда не воспринимаем самого движущегося объекта, а только субъективные знаки последнего, мы не можем узнать, что такое материя. Пожалуй, и загадка ощущения будет разрешена не раньше, чем мы постигнем тайну материи, - говорит Дюбуа-Раймон. Как только мы узнаем, что такое материя, нам откроется так же, как она ощущает. Но и то, и другое нашему познанию как будто недоступно. Те, кто хотели бы перейти это рубеж, должны принять к сведению следующее суждение Дюбуа-Раймона: "Можно все-таки попытаться найти единственный выход, - супранатурализм. Дело только в том, что там, где начинается супранатурализм, прекращается наука".
В двух полярных противоположностях живёт современная естественная наука. Одно, монистическое течение как будто хочет из сферы естествознания пробиться к важнейшим вопросам мировоззрения; другое объявляет о неспособности проникнуть с помощью естественнонаучных средств далее познания, что тому, или иному субъективному состоянию соответствует тот или иной процесс движения. И представители обоих течений непримиримо противостоят друг другу. Дюбуа-Раймон прочел геккелеву "Историю творения" как роман (см. речь Дюбуа-Раймона "Дарвин по отношению к Галиани"). Родословная, которую Геккель строит на основе сравнительной анатомии, истории зародыша и палеонтологии, представляется ему столь же ценной, как "генеалогия гомеровских героев в оценке исторической критики". Но со своей стороны, Геккель усматривает в мировоззрении Дюбуа-Раймона ненаучный дуализм, который естественно дает опору регрессивным воззрениям. "Ликование спиритуалистов по случаю "пограничной речи" Дюбуа-Раймона было тем более светлым и справедливым, что Дюбуа-Раймон с тех пор оценивался как принципиальный и выдающийся представитель научного материализма".
То, что многие начали принимать двойственность мира как внешние процессы движения и внутренние (субъективные) представления и ощущения, обусловлено применимостью математики к первому виду процессов. Если материальные частицы (атомы) принимаются вместе с силами, то становится возможным вычислить, как будут двигаться атомы под влиянием этих сил. Заманчивость, которой обладает астрономия с ее строгим методом исчисления, переносится на мельчайшие частицы тел. Астроном, следуя законам небесной механики, вычисляет способы движения светил. В открытии Нептуна переживали триумф этой небесной механики. К законам движения небесных тел можно также отнести движения, которые происходят во внешнем мире, когда мы слышим тон, видим цвет; пожалуй, когда-нибудь станет возможным подсчитывать движения в нашем мозгу по способу дважды два четыре. В тот момент, когда подсчитано все то, что можно выразить счетными формулами, мир получает математическое объяснение. Лаплас в "Философском очерке вероятности" (1814 г.) дал обворожительную характеристику идеала такого объяснения мира: "Дух, который в каждый данный миг знал бы все силы, оживляющие природу, и взаимное расположение существ, из которых она состоит, если бы он был кроме того достаточно объемлющим, что бы подвергнуть эти данные анализу, такой дух мог бы в одной и той же формуле постичь и движения величайших мировых тел и легчайших атомов: для него не осталось бы ничего неопределенного, и прошлое, и будущее были бы равно доступны его взору. В том совершенстве, которое человеческий рассудок придал астрономии, он имеет слабое отображение такого духа". И Дюбуа-Раймон следующим образом подкрепляет эти слова: "Подобно тому, как астроном предсказывает день появления на небосклоне кометы, воротившейся из глубины мирового пространства, так тот дух своими вычислениями предугадывает день, когда засверкает греческий крест софийской мечети и когда Англия сожжет последний кусок каменного угля".
Можно не сомневаться в том, что даже с помощью совершеннейшего математического знания некоторого процесса движения я не смогу уяснить себе, почему этот процесс движения выступает как красный цвет. Если один шар ударяется о другой, то направление движения второго шара можно вполне объяснить. Мы можем математически представить себе, что за движение возникает из некоторого другого движения. Но мы не в состоянии тем же способом узнать, как из одного определенного движения возникает красный цвет. Мы можем только сказать, - если имеется то или иное движение, имеется тот или иной цвет. Мы в этом случае можем только описать факты. Итак, в то время как то, что поддаётся вычислению, мы можем объяснить, - что кажется противоположностью по отношению к чистому описанию, - в случае всего, что не поддаётся исчислению, мы ограничиваемся только описанием.
Очень важное научное признание сделал Кирхгофф, когда в 1874 г. следующим образом сформулировал задачу механики: она должна "с максимальной полнотой и простотой описывать происходящие в природе движения". Механика применяет математику. Кирхгофф признает, что с помощью математики нельзя достигнуть ничего кроме полного и простого описания процессов в природе.
Для тех лиц, кто требовал от объяснения чего-то существенного, а не только простого описания с некоторых точек зрения, убеждения Кирхгоффа могли послужть подтверждениемих взгляда о существовании "границ естествознания". Дюбуа-Раймон похвалил "мудрую сдержанность мастера" (Кирхгоффа), который в качестве задач механики поставил описание движений тел, причём поставил наперекор Эрнсту Геккелю, говорившему о "душе атома".
* * *
Решительную попытку построить мировоззрение на том представлении, что все воспринимаемое нами является якобы следствием нашей собственной организации, предпринял Фридрих Альберт Ланге (1828 - 1875) своей "Историей материализма" (1864). С отвагой и непрерывной последовательностью он продумал это представление до конца. Сила Ланге заключалась в остром и всесторонне проявляющемся характере. Он был одной из тех личностей, которые могли многое понять и мастерски обходиться с понятым.
И особенно значительным стал образ мыслей Канта, который был действенно обновлён им с помощью нового естествознания: то, что мы воспринимаем вещи не так, как они того требуют, а как это требуется нашей организации. В сущности Ланге не создал никакого нового представления. Но имеющийся идейный мир он осветил на редкость ярким светом. Наша организация, наш мозг с органами чувств производит мир наших ощущений. Я вижу нечто синее, ощущаю нечто твердое просто потому, что я так и так-то организован. Но я также связываю ощущения с предметами. Из ощущений белого, мягкого и т. п. я образую, например, представление о воске. Если я
рассматриваю мои ощущения мысленным взором, то я не двигаюсь ни в каком внешнем мире. Мой рассудок по своим рассудочным законам вносит взаимосвязь в мир моих ощущений. Если я утверждаю, что воспринимаемые мною в телах свойства должны иметь своей предпосылкой материю и процессы движения, то и в этом случае я не выхожу за рамки моего существа. Я чувствую, что моя организация принуждает меня примысливать материальные процессы движения к воспринимаемым мною ощущениям. Тот самый механизм, который производит все наши ощущения, создает также наше представление о материи. Материя в той же мере является лишь продуктом моей организации, как цвет или тон. И даже если мы говорим о вещах-в-себе, мы не должны забывать о том, что тем самым мы ни в малейшей мере не выходим за пределы собственного существа. Мы так устроены, что не в состоянии выйти их самих себя. Да, также и то, что находится по ту сторону нашей области, мы можем осуществлять для себя только с помощью нашего представления. Мы чувствуем некоторую границу нашего существа и говорим себе, что по ту сторону границы имеется нечто, вызывающее наши ощущения. Но мы можем двигаться только вплоть до границы. Также и эту границу мы определяем для себя сами, поскольку не можем двигаться дальше. "Рыба плавает в воде, а не в земле; но она может все-таки ударяться головой о почву и стенку дна". Так и мы можем жить внутри наших ощущений и представлений, но не во внешних вещах. Но мы наталкиваемся на некоторую границу, дальше которой не можем двигаться и где нам остается только сказать: по ту сторону лежит неведомое. И все представления об этом неизвестном будут несостоятельны, ибо мы не можем ничего иного, как только переносить привычные представления на неизвестное; это так же умно, как если бы упомянутая рыба сказала себе: здесь я не могу плыть дальше, значит, отсюда начинается другая вода, в которой я хочу попробовать плыть иначе. Между тем нигде кроме воды плавать она не может.
Далее следует иной поворот мысли. Он связан с первым. Ланге приводит его как дух, наделенный порывом непреклонной последовательности. Как обстоит дело со мной, когда я рассматриваю сам себя? Не связан ли я и здесь законами моей собственной организации, как тогда, когда я рассматриваю нечто иное? Мой глаз рассматривает предмет. Скорее - он его создает. Без глаза нет цвета. Я думаю, что передо мной некий предмет, но, присмотревшись внимательнее, обнаруживаю, что это мой глаз, а значит, я сам, создает предмет. Но теперь я хочу рассмотреть самый мой глаз. Я не могу этого сделать иначе, как только опять-таки прибегнув к моим органам. Стало быть, представление, которое я создаю о себе самом, есть только мое представление. Чувственный мир является продуктом нашей организации. Наши видимые органы суть, как и другие части мира явлений, только образы неизвестного предмета. Наша действительная организация остается столь же скрытой от нас, как и действительно внешние вещи. Мы имеем пред собой лишь продукт обоих. На основе неведомого нам мира из неизвестного нам "я" мы производим мир представлений, который есть все то, чем мы можем заниматься.
Ланге спрашивает себя: куда ведет последовательный материализм? Положим, все наши умозаключения и чувственные ощущения производятся мозгом, связанным с материальными условиями, и столь же материальными органами. В таком случае для нас возникает необходимость исследовать наш организм, чтобы увидеть, как он работает. Мы можем сделать это опять-таки лишь с помощью наших органов. Нет цвета помимо глаза, но также нет глаза помимо глаза. "Последовательное материалистическое рассмотрение благодаря этому тотчас превращается в последовательное идеалистическое. Мы не можем допустить пропасти в нашем существе. Мы не можем отдельные функции нашего существа приписывать физической, а другие - духовной природе, но мы будем правы, если предположим для всего, в том числе и для механизма мышления, физические предпосылки, и не успокоимся до тех пор, пока они не будут найдены. Но не менее правы будем мы и в том случае, если мы не только являющийся нам внешний мир, но также и органы, коими мы его воспринимаем, станем рассматривать лишь как отражения действительно сущего. Глаз, посредством которого мы как будто видим, является сам продуктом нашего представления, и если мы обнаружим, что наши зрительные образы вызваны устройством глаза, то нам никогда не следует забывать, что также и глаз с его структурой, и мозг с его сложной конфигурацией, коему мы приписываем значение причины мышления, являются только представлениями, которые хотя и образуют в самом себе взаимосвязанный мир, но, тем не менее, мир, указывающий за свои собственные пределы … Чувства, как говорил Гельмгольц, дают нам воздействия, следствия вещей, а не верные их образы или, тем более, сами вещи. К этим простым воздействиям, следствиям относятся, однако, и сами органы чувств вместе с мозгом и мыслимыми в нем молекулярными движениями" (История материализма, стр. 734 нем. изд.). Ланге поэтому предполагает наличие некоего мира за пределами нашего, который зиждется то ли на вещи-в-себе, то ли на чем-то таком, что не имеет ничего общего с вещью-в-себе, ибо само это понятие, которое мы образуем на границе сферы нашего опыта, само относится лишь к миру наших представлений.
Таким образом, мировоззрение Ланге приводит к мнению, что у нас есть лишь некоторый мир представлений. Но этот последний заставляет нас предположить еще "Нечто" за его же пределами; но этот мир представлений совершенно не годится для образования соответствующего суждения об этом "Нечто". Это мировоззрение абсолютного неведения, агностицизма.
Всякое научное устремление должно остаться неплодотворным, если оно не опирается на показания чувств и логическую деятельность рассудка, увязывающего эти показания чувств: таково убеждение Ланге. Однако ему из его рассмотрения первоистоков познания ясно также и то, что чувства и рассудок вместе не могут дать нам ничего такого, что не было бы результатом нашей собственной организации. Он убедился в этом при рассмотрении происхождения познания. Итак, мир является для него, в сущности, вымыслом чувств и рассудка. Это мнение приводит его к тому, что он по отношению к идеям вообще снимает вопрос об их истинности. Он не признаёт истину, объясняющую нам сущность мира. Далее он полагает, что как раз потому, что отпадает необходимость выяснять истинность познаний чувств и рассудка, освобождается путь для идей и идеалов, которые человеческий дух образует о том, что дают ему чувства и рассудок. Не раздумывая, он объявляет вымыслом все то, что выходит за сферу чувственного наблюдения и рассудочного познания. Все, что говорит о существе мира идеалистический философ, есть поэтический вымысел. Благодаря такому повороту, который Ланге сообщил материализму, закономерно возникает вопрос: почему собственно нужно пренебрегать сочинительством высоких идей, если сами чувства занимаются этим поэтическим вымыслом? Чем отличается один вид сочинительства от другого? Для того, кто так думает, имеется иная причина, чтобы придавать цену представлению, чем для того, кто верит, что оно ценно, поскольку истинно. И Ланге находит эту причину в том, что представление имеет ценность для жизни. Дело в том, что представление может быть полезным для людей, а не в том, чтобы оно было истинным. Можно быть уверенным только в одном: то, что я вижу розу красной, то, что я связываю причину со следствием, я разделяю со всеми ощущающими и мыслящими существами. Мои чувства и рассудок не могут создавать никаких внешних вещей (Extrawerte). Но если я выхожу за пределы того, что сочиняют чувства и рассудок, то я не связан более с организацией всего человеческого рода. Шиллер, Гегель, Хинц и Кунц одинаково видят цветок: но то, что сочиняет о нём Шиллер, то, что мыслит о нём Гегель, то, что сочинят и помыслят о нём Хинц и Кунц не совершается одинаково. И как Хинц и Кунц впали бы в заблуждение, рассматривая собственное представление о цветке, как вне их пребывающую сущность, так и Шиллер и Гегель впали бы в заблуждение, рассматривая свои идеи не как поэтические вымыслы, отвечающие их собственным духовным потребностям. То, что сочиняют чувства и рассудок, относится ко всему роду человеческому; никто здесь не может разойтись с другим. То, что выходит за сферу творчества чувств и рассудка, является делом отдельного индивидуума. Однако этому сочинительству индивида Ланге все-таки приписывает и некоторую объективную ценность для всего человечества, если индивид, "будучи богато одаренным и мыслящим в русле типического, благодаря силе своего духа призван стать вождем". Таким образом, Ланге пытается оправдать ценность идеального мира, объявляя сочинительством, поэтическим вымыслом также и так называемое действительное. Всюду, куда он ни обращает взор, находит он только одно сочинительство, - начиная с низшей ступени чувственного наблюдения, на которой индивидуум "еще целиком связан с основными признаками рода, вплоть до творческой власти поэзии". "Функции чувств и связующего рассудка, кои создают нам действительность в частностях можно расценить гораздо ниже по сравнению с высоким полетом духа в свободно творящем искусстве. Но в целом и во взаимосвязях они не подчиняются никакой иной духовной деятельности. Хотя наша действительность столь мало является действительностью по желанию нашего сердца, но, все же она есть прочное основание всей нашей духовной экзистенции. Индивидуум вырастает из почвы рода, и общее и необходимое познание образует единственно достоверное основание для возвышения индивида к эстетическому постижению мира" ("История материализма", нем. 1887, с. 824).
Заблуждение идеалистического мировоззрения Ланге усматривает не в том, что оно со своими идеями выходит за границы мира чувств и рассудка, а в том, что оно этими идеями хочет достичь чего-то большего, чем индивидуальное сочинительство. В любое время готов выступить материалист и заявить: я знаю истину; идеализм - это сочинительство. Пусть так, говорит Ланге, но и материализм - тоже сочинительство. В идеализме сочиняет индивидуум, в материализме - род. Если оба сознают свою сущность, то все в порядке: чувственно-рассудочная наука с ее строгими, для всего рода обязательными доказательствами; идейное сочинительство с его создаваемыми индивидом, но все же для всего человечества ценными мирами представлений. "Вполне достоверно одно: что человек нуждается в некотором восполнении действительности через посредство им самим созданного идеального мира и что в подобном творении взаимодействуют высшие и благороднейшие функции его духа. Но должно ли сие свободное деяние духа каждый раз принимать обманчивый облик доказательной науки? В таком случае также и материализм будет выступать снова и снова, и разрушать смелые спекуляции, пытаясь найти соответствие стремлению разума к единству в минимуме возвышения над действительным и доказуемым" ("История материализма", с. 828).
Полнейший идеализм у Ланге идет рука об руку с полным отказом от истины. Мир для него вымысел, но такой вымысел, который он ценит, как таковой, не меньше, чем, если бы он мог признать его за действительность.
Два течения с ясно выраженным естественнонаучным характером радикально противостоят друг другу на современном этапе мировоззренческой эволюции: монистическое, в котором движется геккелевская манера представления, и дуалистическая, самым энергичным и последовательным представителем которой является Ф. Ланге. Монизм усматривает настоящую действительность в мире, который человек может наблюдать, и не сомневается в том, что он посредством замкнутого на наблюдении мышления может обрести также познание существенного значения этой действительности. Он не воображает себе, что существо мира можно объяснить с помощью нескольких смелых формулировок; он продвигается вперед, держась за руку фактов, и образует себе идеи касательно взаимосвязи этих фактов. Но относительно этих своих идей он убежден, что они дают ему подлинное знание о действительном бытии.
Дуалистическое воззрение Ланге делит мир на известное и неведомое. С первым (известным) оно обходится так же, как и монизм - опираясь на наблюдение и рассматривающее мышление. Однако оно подпадает вере, что ни мышлением, ни наблюдением нельзя проникнуть к истинной сокровенной сущности мира. Монизм верует в истину действительного и наилучшее основание для человеческого идейного мира усматривает он в том, что этот идейный мир опирается на мир наблюдений. В идеях и идеалах, почерпнутых им из природного бытия, он видит сущности, которые вполне удовлетворяют его нравственные потребности. В природе находит монизм наивысшее бытие, которое он желает не только познать, но предаться ему всем сердцем. Дуализм Ланге отказывает природе в способности удовлетворять высшие духовные потребности. Он должен поэтому предположить для человеческого духа некоторый особенный мир возвышенного поэтического вымысла за пределами того, что открывают наблюдение и мышление. Монизму в настоящем познании дана высшая духовная ценность, которая вследствие ее истины дает человеку также чистейший нравственный и религиозный пафос. Дуализму познание не может принести подобного удовлетворения. Он должен соизмерять ценность жизни с иными, чем познание, сущностями. Идеи ценны не тем, что происходят из истины. Они ценны тем, что служат жизни в ее высших формах. Жизнь оценивается не по идеям, но идеи оцениваются по их плодотворности для жизни. Не истинное познание движет человеком, а ценные мысли.
* * *
В признании естественнонаучного образа мыслей Ф. Ланге соглашается с монизмом постольку, поскольку он считает не правомочным любой другой источник познания действительности; но он решительно отказывает этому образу мыслей в какой бы то ни было способности проникновения в сущность вещей. Чтобы двигаться на надежной почве, он подрезает крылья человеческому образу мыслей. То, что Ланге делает с такой проницательностью , соответствует образу мысли, глубоко коренящемуся в мировоззренческой эволюции нового времени. Этот ход мысли отчетливо проступает также и в другой области идейного мира XIX в. Через различные фазы этот мир идей развился до той точки зрения, исходя из которой Герберт Спенсер в Англии примерно в одно время с Ланге в Германии обосновал дуализм; последний, с одной стороны, стремился к вполне естественнонаучному познанию мира, а с другой стороны пришел к непознаваемости сущности бытия. Когда Дарвин опубликовал свой труд о "Происхождении видов", дающий прочную опору монизму, он не преминул воздать хвалу естественнонаучному образу мыслей Г. Спенсера. "В одном своем очерке (1852) Герберт Спенсер с замечательной убедительностью и наглядностью противопоставляет друг другу теорию творения и теорию органического развития. Из аналогии с продуктами селекции, из изменчивости, коей подлежат эмбрионы многих видов, из трудности различения между видом и его вариациями и из основного закона общего ступенчатого ряда он заключает, что виды подверглись изменениям. Эти изменения, полагает он, обусловлены изменившимися условиями. Также и психологию автор рассматривает (1855) по принципу необходимого постепенного приобретения всякой духовной силы и способности". Подобно основателю современного воззрения на жизненные процессы, многие люди, думающие в естественнонаучном русле, испытывали влечение к Спенсеру, который, по словам Дарвина, рассматривал всю действительность от неорганических фактов до психологии единственно в смысле постепенного усвоения видовых признаков. Спенсер является также сторонником агностицизма, так что Ф. Ланге имел основание сказать: "Герберт Спенсер является приверженцем, - что родственно и нашей точке зрения, - материализма явления, относительная справедливость которого в естествознании ограничена мыслью о непознаваемом абсолюте".
Не следует упускать из виду, что Спенсер пришел к своей точке зрения, исходя из той же предпосылки, что и Ланге. Ему в мыслительном развитии в Англии предшествовали умы, руководствовавшиеся двойным интересом. Они хотели понять, чем собственно обладает человек в своем познании. Но вместе с тем они не желали потрясать сущность мира ни посредством сомнения, ни посредством разума. В той или иной степени все они были захвачены ощущением, которое столь радикально выразил Кант: "Я должен был упразднить знание, дабы освободить место для веры".(см. том 1 "Загадки философии стр.)
У колыбели мировоззренческой эволюции XIX в. в Англии стоял Томас Рейд (Reid 1710-1796). Главное убеждение этого мужа перекликается с воззрением самого Гёте, выраженном в следующих словах: "В конечном счете, как мне думается, имеются лишь практические и самокорректирующие операции общего человеческого рассудка, который отваживается упражняться в высших сферах". Этот общий человеческий рассудок не сомневается в том, что он имеет дело с действительными вещами и процессами, когда он рассматривает факты мира. Рейд считает жизнеспособным лишь такое мировоззрение, которое опирается на этот основной взгляд здорового человеческого рассудка. Если даже предположить, что наше наблюдение могло бы нас обмануть и что истинное существо вещей является совершенно иным, нежели это показывают суждения чувств и рассудка, то все же нет причины печалиться об этом. Мы справляемся с жизнью, только доверяя нашему наблюдению, остальное нас не касается. С этой точки зрения Рейд надеется придти к действительно удовлетворяющим истинам. Он строит свое воззрение не с помощью сложных мыслительных операций, а посредством возвращения к взглядам, инстинктивно усвоенным душою. Инстинктивно, бессознательно душа уже знает нечто до того, как она заглядывает в себя самое с факелом сознания. Инстинктивно она знает о том, что должна следовать свойствам и процессам телесного мира; но инстинктивно она располагает также направлением своего морального поведения, суждением о добре и зле. Посредством ориентации мышления на истины, данные от рождения здоровому человеческому рассудку, Рейд направляет это мышление на наблюдение души. Эта наклонность к наблюдению души с тех пор является особенностью английской мировоззренческой эволюции. Выдающимися личностями, которые находятся внутри этого развития, являются Вильям Гамильтон (1788-1856), Генри Манзель (1820-1871), Уильям Уевел (1795-1866), Джон Хершель (1792-1871), Джеймс Милль (1773-1836), Джон Стюарт Милль (1806-1879), Александр Бейн,(1818-1903) Герберт Спенсер (1820-1903). Все они ставят психологию в центр своего мировоззрения.
Также и для Гамильтона истинным является то, что душа изначально находит необходимым принять как истинное. По отношению к изначальным истинам упраздняется доказательство и понимание. Они в этом смысле непостижимы: можно лишь констатировать их внезапное всплывание на горизонте сознания. Но к изначальным суждениям сознания относится также и то, что всякая вещь в этом мире зависит от чего-то такого, чего мы не знаем. В мире, в котором мы живем, находятся только зависимые вещи и нет ничего безусловно независимого. Но такая независимая вещь все-таки имеется. Зависимому должно быть предпослано независимое. Нашим мышлением мы не можем войти в независимое. Человеческое знание исчисляется зависимыми величинами и опутано противоречиями, когда оно обращает к независимому свои мысли, приспособленные вполне только к зависимым вещам. Знание, стало быть, должно отступить, когда мы хотим подойти к независимому. Религиозная вера здесь на своем месте. Лишь сознаваясь в том, что он ничего не ведает об истинной сущности мира, может человек стать моральным существом. Он волен предположить существование Бога, обусловливающего моральный порядок в мире. Никакая логика не может похитить эту веру в бесконечного Бога, поскольку принимается положение о том, что логика в целом ориентируется исключительно на зависимое, а не на независимое. - Ученик и продолжатель Гамильтона Манзель высказал эти воззрения в наиболее экстремальных формах. И это не является большим преувеличением, когда Манзеля называют адвокатом веры, который уклоняется от беспристрастного суждения в вопросе об отношении веры и знания и с односторонним пристрастием высказывается в пользу религиозной догмы. Он полагает, что истины религиозного откровения, безусловно ввергают знания в противоречия. Но происходит это не потому, что сами истинах откровения ущербны, а лишь от того, что дух человеческий ограничен и не может подняться в те сферы, коих касается откровение.
Уильям Уивел (Willium Whewell) пытается проникнуть в тайну происхождения и ценности человеческого знания через посредство исследования того, как первопроходцы главных научных областей достигали своих познаний. Его "История индуктивных наук" (1837) и "Философия индуктивных наук" (1840) исходят из наблюдения психологии научного исследования. В выдающихся научных открытиях он прослеживает, в какой мере наши представления принадлежат внешнему миру и - самому человеку. Whewell пришел к выводу, что душа из собственных сил восполняет научное наблюдение. Кеплер располагал понятием эллипса уже до того, как он обнаружил, что планеты движутся по эллиптическим орбитам. Науки, следовательно, возникают не вследствие обыкновенного принятия извне, а благодаря деятельному внедрению человеческого духа, напечатлевающего собственные законы принятому. Однако науки не достигают последней сущности вещей. Разобщенными частностями мира занимаются они. Но как для каждой отдельной вещи полагается наличие причины, следствия и т. п., так и по отношению к миру в целом не обойтись без таких предпосылок. Поскольку же знание не может выполнить этого требования, необходимо восполняющее участие религиозной догмы. Подобно Уивелу Хершель, опираясь на рассмотрение многочисленных примеров, указывает на источник знания в человеческом духе*.( A preliminary Discourse on the study of Natural Philosophie, 1831)
Джон Стюарт Милль принадлежал к тому типу мыслителей, которые всецело охвачены следующим ощущением: трудно соблюсти меру предосторожности, когда идет речь об определении достоверного и сомнительного в человеческом знании. Милль еще подростком был хорошо осведомлен в различных научных дисциплинах, что сообщило его духу очень своеобразный характер. Трехлетним ребенком он получал уроки греческого языка, а затем арифметики. Вскоре последовали также и другие предметы. Впрочем, не столько уроки, сколько сама манера преподавания, которое вел его отец, выдающийся мыслитель Джеймс Милль, подействовала на него таким образом, что Джон Стюарт владел острейшей логикой, как бы полученной им от самой природы. Вот что пишет он об этом в своей автобиографии: "Отец мой никогда не открывал мне того, что может быть найдено мышлением, пока я не исчерпывал своих сил, стараясь дойти до всего самостоятельно". У такого человека должны становиться прямо-таки судьбою жизни те вещи, коими занимается его мышление. "Я никогда не был ребенком, никогда не играл в крикет; лучше все-таки предоставить природе идти своими путями", - говорил Дж. Ст. Милль, намекая на опыты, которые становятся уделом человека, судьбу которого создает исключительно мышление. На него, проделавшего столь необычное развитие, должны были со всей тяжестью обрушиться вопросы о значении знания. В какой мере познание, являющееся для него жизнью, должно вести к источникам явлений мира? Направление, в котором двигались мысли Дж. Ст. Милля в поисках ответа на этот вопрос, было, правда, слишком рано определено отцом его. Мысль Джеймса Милля отправлялась от психологического опыта. Он наблюдал, как в человеке сочетаются друг с другом представления. Благодаря сочетанию представлений человек получает знание о мире. Стало быть, надо задать себе вопрос: в каком отношении друг к другу находятся сочетания представлений и комбинаций вещей в мире. Такой способ рассмотрения вызывает у мышления недоверие к себе. Человеческие представления могут комбинироваться совершенно иначе, чем вещи во внешнем мире. На этом недоверии построена вся логика Дж. Ст. Милля, которая опубликована в 1843 г. под названием "Система логики".
Пожалуй, в сфере мировоззрения не найти более острой противоположности, чем эта "Логика" Милля и появившаяся 27 лет до нее "Наука логики" Гегеля. У Гегеля мы находим высшую степень доверия к мышлению, полную уверенность в том, что не может обмануть нас то, что переживаем мы в нас самих. Членом всего мира чувствует себя Гегель. То, что он переживает в себе, должно, следовательно, принадлежать всему миру. И поскольку он всего непосредственнее познает самого себя, то он и верит в это познанное в себе и на этом основании высказывает суждения об остальном мире. Он говорит себе: если я воспринимаю какую-либо внешнюю вещь, то она, вероятно, показывает мне только свою внешнюю сторону, скрывая свое внутреннее существо. Во мне самом такое невозможно. Я вижу себя насквозь. Но тогда я могу сравнить вещи снаружи с моим собственным существом. Если они со своей внешней стороны обнаруживают нечто от моего собственного существа, то я могу также сообщить им нечто от моего существа. Поэтому Гегель с доверием ищет во внешней природе тот самый дух, ту связь мыслей, которые он находит в себе самом. Милль чувствует себя сначала не членом, а созерцателем мира. Вещи снаружи являются для него чем-то неведомым, и мысли, которые создает себе человек об этом мире внешних вещей, он встречает с недоверием. Воспринимают, например, людей. До сих пор наблюдение говорило о том, что люди умирают. Отсюда образуется суждение, что все люди смертны. "Все люди смертны; герцог Веллингтон человек; следовательно, герцог Веллингтон смертен". - Так умозаключают все. Но что дает право на это? - спрашивает Дж. Ст. Милль. Если бы появился один единственный бессмертный человек, то все суждение потребовалось бы перевернуть. Можем ли мы на этом основании, что люди до сих пор являются смертными, утверждать, что они останутся таковыми и в будущем. Всякое знание недостоверно. Ибо мы, опираясь на сделанные прежде наблюдения, умозаключаем о вещах, о которых мы не можем ничего знать до тех пор, пока не произведём наблюдения над ними. Что должен был бы сказать о таком суждении человек, думающий в духе Гегеля? Об этом не трудно составить себе представление. Из достоверных понятий известно, что все радиусы одной окружности равны. Если мы спустя четверть часа обнаружим, что радиусы в данном круге уже не равны, то отсюда мы еще не можем умозаключить, что в кругу при некоторых обстоятельствах могут оказаться и неравные радиусы, а можем только сказать: то, что некогда было кругом, по каким-то причинам вытянулось в эллипс. Примерно в таком положении находится мыслящий человек в гегелевском смысле по отношению к своему суждению: все люди смертны. Мы образуем понятие человека не через наблюдение, а - как внутреннее мыслительное переживание, подобно понятию круга. К понятию окружности относится равенство радиусов, точно также атрибут смертности принадлежит понятию человека. Если мы встречаем существо, обладающее всеми другими признаками человека, то оно должно также отличаться и смертностью, подобно тому, как иные признаки круга влекут за собой и равенство радиусов. Встретив существо, не подверженное смерти, Гегель сказал бы только: это не человек. Он не позволил бы себе сказать: человек может быть также и бессмертным. Он именно исходит из той предпосылки, что понятия не образуются произвольно, а коренятся в самом существе мира, подобно тому, как мы сами принадлежим этому миру. Если уж сложилось у нас однажды понятие человека, то происходит оно из существа вещей; и мы имеем все основания применять его также и к этому существу. Почему возникло у нас понятие смертного человека? Потому, однако, что оно имеет свое основание в природе вещей. Тот, кто полагает, что человек находится вне вещей и как посторонний образует себе суждения, может сказать себе следующее: мы видели до сих пор, что люди умирают, так что создадим себе созерцательное понятие "смертные люди". Но тот, кто сознает свою принадлежность вещам, которые также высказываются в его мыслях, скажет себе: До сих пор все люди умирали. Стало быть, к их существу относится смертность, а тот, кто не умирает, заведомо не является человеком. Гегелевская логика стала логикой самих вещей; ибо для Гегеля язык логики является действием существа мира, а не какой-то лептой, вносимой человеческим духом в это существо извне. Логика Милля - это созерцательная логика, которая сначала обрывает нить, связующую ее с миром.
Милль обращает внимание на то, что мысли, представлявшиеся одному поколению, безусловно, достоверным внутренним переживанием, опровергаются последующими поколениями. Например, в средневековье считали невозможным существованием антиподов и думали, что звезды попадали бы вниз, если бы не были прикреплены к прочным сферам. Человек, стало быть, лишь тогда обретает правильное отношение к своему знанию, когда, несмотря на сознание того, что в нем высказывается мировая логика, он во всех отдельных случаях с помощью методической проверки своих представлений на основе наблюдения образует суждение, нуждающееся в постоянной поправке. И собственно методы наблюдения пытается с холодным расчетом обосновать Дж. Ст. Милль в своей логике. Вот только один пример. Предполагается, что некоторые явления при некоторых обстоятельствах происходили бы неизбежно. В одном определенном случае все эти обстоятельства были бы налицо за исключением одного. - Тогда явление не могло бы произойти. В таком случае можно сказать, что отсутствующие обстоятельства находятся в причинно-следственной связи с не происшедшим событием (явлением). Если два вещества постоянно образуют химическое соединение и однажды этого не происходит, то надо исследовать, чего недостает из обычных условий. Посредством такого метода мы приходим к представлению о взаимосвязях фактов, которые справедливо рассматриваются нами как имеющие свое основание в природе вещей. Милль во всем хочет следовать методу наблюдения. Логика, о которой Кант сказал, что она не продвинулась ни на шаг со времен Аристотеля, является средством ориентации внутри самого мышления. Она показывает, как перейти от одной правильной мысли к другой. Логика Милля является средством ориентации в мире фактов. Она хочет показать, как от наблюдений придти к деятельным суждениям о вещах. Милль не делает никакого различия между человеческими суждениями. У него все происходит из наблюдения, - все, что человек думает о вещах. Ни для чего, даже для математики не делает он исключения. Также и математика должна черпать свои основные положения из наблюдения. Во всех случаях, которые до сих пор оказывались в сфере нашего наблюдения, мы замечали, что две прямые после пересечения расходятся в разные стороны и не пересекаются вновь. Отсюда мы умозаключаем, что они не пересекаются. Но подлинного доказательства для этого у нас нет. Таким образом, мир для Стюарта Милля является чем-то чуждым человеку. Человек наблюдает явления мира и упорядочивает их сообразно свидетельствам, которые даёт ему мир в его жизни представлений. Он воспринимает закономерности в явлениях и с помощью логико-методических исследований делает эти регулярности законами природы. Но это никоим образом не ведет к самой основе вещей. Можно поэтому очень хорошо представлять себе, что все в мире могло быть совершенно иным. Милль убежден в том, что каждый человек, привыкший к абстрагированию и анализу и честно применяющий свои способности, после некоторой тренировки своей силы представления не обнаружит никакой трудности в идее, что в другой планетарной системе нежели наша нельзя найти тех законов, которые действуют в нашей.
Было бы лишь проявлением последовательности, если эту позицию Милля, позицию созерцателя мира применить по отношению к собственному "я" человека. Представления приходят и уходят, сочетаются и разъединяются в его внутреннем мире; это человек воспринимает. Существо, которое в качестве "я" остается тем же самым в этом приходе и уходе, сочетании и разделении представлений, он не воспринимает. Человек видел до сих пор, как в нем всплывают представления и он предполагает, что это будет продолжаться и впредь. Из этой возможности, что вокруг некоторого средоточия может группироваться мир представлений, возникает представление "я". Итак, по отношению к собственному "я" человек также является созерцателем. Он позволяет себе говорить о своих представлениях, что он может знать о себе. Милль рассматривает факты воспоминания и ожидания. Если все то, что я о себе знаю, должно исчерпываться представлениями, то я не могу сказать: я вспоминаю одно ранее имевшееся у меня представление или: я ожидаю наступления некоторого переживания; но одно представление вспоминает себя в себе самом или оно ожидает своего будущего выступления. "Если мы, - говорит Милль, - говорим о духе как о последовательности восприятий, то далее мы должны говорить о такой последовательности восприятий, которая сознает самое себя как будущее и бывшее. И затем мы оказываемся перед дилеммой: либо приходится считать "я" или дух чем-то отличным от восприятий, либо признать парадокс, что простой ряд представлений может иметь сознание о своем прошлом и будущем". Милль не выходит из этой дилеммы. Для него здесь скрывается неразрешимая загадка. Он разорвал связь между собой, созерцателем, и миром и не в силах восстановить единство. Мир остается для него потусторонним незнакомцем, производящим впечатления на человека. И все знание об этом незнакомце исчерпывается тем, что он может вызывать в человеке восприятия. Итак, вместо того, чтобы говорить о действительных вещах вне себя, человек в сущности может говорить лишь о том, что существует как возможность восприятия. Кто говорит о вещах-в- себе, занимается пустословием. Лишь тот, кто говорит о постоянной возможности ощущений, восприятий, представлений, пребывает на твердой почве фактического.
Стюарт Милль испытывает настоящее отвращение перед всеми мыслями, которые возникают помимо сравнения фактов, выяснения сходства, аналогий, подобий и взаимосвязей явлений. Он убежден, что человеческая жизнь понесет значительный ущерб, если возобладает мнение, что к какой-либо истине можно придти помимо наблюдения. В этом отвращении Милля явственно выступает опасение противостоять вещам в познании иначе, чем в пассивном приятии. Они должны диктовать человеку, что надлежит ему думать о них. Если он дерзнет выйти за пределы этого приятия, и скажет что-либо о вещи, исходя из себя самого, то нет никакой гарантии, что это его собственное порождение действительно будет иметь что-нибудь общее с вещами. В конце концов, он приходит в своем воззрении к тому, что не решается доверить своему самостоятельному мышлению какую-либо роль в мире. Его смущает именно то, что он при этом является самодеятельным. Он более всего хотел бы исключить свою самость, чтобы ничего ложного не примешалось в то, что говорят о себе сами явления. Он не может по достоинству оценить тот факт, что его мышление также принадлежит природе, как и рост травы. Насколько ясно, что надо наблюдать былинку, если хочешь что-нибудь знать о ней, настолько же должно быть очевидным, что нужно вопрошать собственное самодеятельное мышление, если хочешь узнать его. Но каким образом, пользуясь гётевским выражением, уяснить свое отношение к самому себе и к внешнему миру, если исключить самого себя из познавательного процесса? Велика ли заслуга Милля в нахождении метода, благодаря которому человек познает все то, что от него не зависит: прозрение в то отношение, в котором находится человек к себе самому и со своим "я" - к внешнему миру, нельзя получить ни одним из этих методов. Все подобные методы имеют значение лишь для отдельных наук, а не для объемлющего воззрения на мир. Что представляет собой самостоятельное мышление, не может открыть никакое наблюдение: это мышление надо пережить в себе самом. И поскольку мышление только благодаря самому себе может высказать нечто о своем существе, оно опять-таки только само может сказать себе о своем отношении к внешнему миру. Образ мышления Милля , следовательно, полностью исключает достижение мировоззрения. Обрести мировоззрение может лишь погружающееся в себя и благодаря этому прозревающее свою сущность и свое отношение к внешнему миру мышление. То, что Стюарт Милль питал антипатию по отношению к такому мышлению, строящему на самом себе, вполне объясняется его характером. Гладстон в одном из своих писем говорит, что в беседах с Миллем он называл его "святым от рационализма" (см. Гомперц: Джон Стюарт Милль, Вена 1889). Человек, живущий в мышлении всем своим существом, предъявляет к мышлению особенное требование и старается выработать правила максимальной предосторожности, чтобы оно не могло его обмануть. Он становится, таким образом, недоверчивым по отношению к мышлению. Он опасается утратить твердую почву под ногами и оказаться в стихии ненадежности, недостоверности. И ненадежность по отношению ко всем вопросам, которые выходят за сферу строгого знания на данных наблюдения, является основным свойством личности Милля. Кто проследит его раздумья, тот во всех его работах увидит, как Милль всюду оставляет подобные вопросы открытыми, не отваживаясь на достоверное суждение относительно них.
* * *
На непознаваемости истинного существа вещей настаивает также и Герберт Спенсер. Он спрашивает себя сначала: как я прихожу к тому, что я называю истинами о мире? Я наблюдаю отдельные элементы вещей и образую о них суждения. Я наблюдаю, что при некоторых условиях кислород и водород соединяются в воду. Я образую себе суждение об этом. Это отдельная истина, простирающаяся на маленький круг вещей. Я наблюдаю далее также, при каких условиях соединяются другие вещества. Я сопоставляю далее отдельные наблюдения и благодаря этому прихожу к более объемлющим общим истинам о том, как вообще происходит химическое соединение веществ. Всякое познание зиждется на том, что человек переходит от частных истин ко всё более всеобщим, пока, наконец, не остановится на последней истине, которая не сводится ни к каким другим, которую, следовательно, надо усвоить, не будучи в состоянии понять её далее. Таким образом, этот путь познания не дает никакого средства для проникновения в абсолютную сущность мира. Согласно этому мнению, мышлению не остается ничего иного, как только сравнивать вещи друг с другом и составлять себе общие истины о том, что в них является подобным. Но безусловное существо мира ввиду его уникальности объектом сравнения быть не может. Поэтому мышление капитулирует перед ним. Оно не может к нему подступиться.
В такой манере представления явственно слышатся отголоски того мышления, которое образуется также на основе физиологии чувств (ср. стр. 65-66 том 2). У многих мыслителей эта мысль настолько срослась с их духовной жизнью, что она представляется им наиболее добросовестным из всего, что только может быть. Они говорят себе: человек познает вещи только благодаря тому, что он осознает их. Затем более или менее непроизвольно они изменяют эту мысль в иную: можно знать только о том, что вступает в сознание, но невозможно дознаться, какими были вещи до того, как они вошли в сознание. Поэтому и чувственные ощущения они рассматривают так, как если бы они были в сознании; ибо предполагается, что они должны все-таки сначала вступить в сознание, т. е. стать его частью в виде представлений, прежде чем о них удастся что-нибудь узнать.
Также и Спенсер склоняется к тому мнению, что способ познания зависит от самих людей и что поэтому мы должны признать нечто непознаваемое по ту сторону того, что сообщают нам наши чувства и наше мышление. Мы имеем ясное сознание обо всем том, что говорят нам наши представления. Но в это ясное сознание примешивается некоторое неопределенное сознание, которое говорит, что в основе всего того, что мы наблюдаем и мыслим, лежит нечто такое, чего мы не можем, ни наблюдать, ни мыслить. Мы знаем, что имеем дело лишь с простыми явлениями, а не с настоящими реальностями в полном смысле слова. Но именно поэтому мы точно знаем, что в основе явлений лежит непредставимая действительность, когда убеждаемся, что мир наш есть всего лишь явление. Таким поворотом своего мышления Спенсер пытается примирить религию и познание. Есть нечто такое, что недоступно никакому познанию; стало быть, есть также нечто такое, что религия может постигнуть верой, той верой, которую не может сокрушить слабосильное познание.
Затем Спенсер делает полностью ареной естественнонаучных представлений ту сферу, которую он считает доступной познанию. Там, где он намеревается объяснить, он пользуется исключительно естественнонаучными аргументами.
Естественнонаучно трактует Спенсер процесс познания. Всякий орган живого существа возникает благодаря тому, что это существо приспосабливается к условиям, при которых оно живёт. К человеческим жизненным условиям относится и то, что человек обретает себя в мире как мыслящее существо. Его орган познания возникает благодаря приспособлению жизни его представлений к условиям внешнего мира. Когда человек высказывается о какой-либо вещи или процессе, это означает только, что он приспосабливается к окружающему его миру. Все истины возникают на этом пути приспособления. Но то, чем овладевают посредством приспособления, может наследоваться потомками. Не правы те, кто полагает, что сама природа предрасполагает человека к усвоению некоторых всеобщих истин. То, что представляется такой предрасположенностью, когда-то отсутствовало у предков, и было приобретено в ходе приспособления, а затем унаследовано потомками. Если некоторые философы говорят об истинах, которые человек черпает не из собственного опыта, но которые с самого начала заложены в его организации, то они в какой-то мере правы. Но подобные истины все-таки также унаследованы человеком - не как индивидуумом, а как родовым существом. Отдельный индивид наследует готовым то, что было достигнуто в отдаленные времена. - Гёте говорил, что, присутствуя порой на беседах о кантовой "Критики чистого разума", он заметил, что не устарел древний основной вопрос о том, "сколь велик вклад нашего "я" и вклад внешнего мира в наше духовное бытие?" И он продолжает далее: "Я никогда не мог обособить оба (фактора) друг от друга и когда я философствовал на свой лад, то делал это с бессознательной наивностью и действительно верил, что свои мнения я имею перед глазами" Спенсер отодвинул этот старый главный вопрос в сферу естественнонаучного воззрения. Он полагал, что развитый человек вносит вклад в свое духовное бытие, черпая из своего "я"; но это "я" состоит, однако, из наследия, завоеванного предками в борьбе с внешним миром. Если сегодня мы считаем, что видим наши мнения перед своими глазами, то эти мнения отнюдь не всегда были нашими, но были сначала настоящими наблюдениями, которые мы с помощью глаз производили во внешнем мире. Путь Спенсера, как и путь Стюарта Милля, исходит из психологии. Однако Милль останавливается, зацикливается на психологии индивида. Спенсер поднимается от индивидуума к его предкам. Индивидуальная психология оказывается в том же положении, что и эмбриология в зоологии. Некоторые явления зарождения становятся понятными лишь тогда, когда сводятся к явлениям истории рода. Точно так же факты индивидуального сознания непонятны сами по себе. - Нужно подняться к роду и даже еще далее, вплоть до тех познаний, которые усваивали животные предки человека. Спенсер применяет все свое остроумие и проницательность для обоснования этой истории развития процесса познания. Он показывает, как духовные способности из низших зачатков постепенно развиваются благодаря подобающим приспособлениям духа к внешнему миру и вследствие наследования этих приспособлений. Все то, что отдельный человек узнает о вещах помимо опыта, посредством чистого мышления, это приобретено человечеством или его пращурами благодаря наблюдению и опыту. Лейбниц обосновал согласование человеческого внутреннего мира с внешним миром, лишь прибегнув к предположению гармонии, изначально предустановленной творцом. Спенсер трактует это согласование с естественнонаучных позиций. Оно не было предусмотрено, а постепенно сложилось. Здесь естественнонаучное мышление простирается вплоть до высших, данных человеку фактов. Линей полагал, что каждая живая форма существ имеется потому, что такою создал ее Творец. Дарвин считал, что формы живых существ таковы, что они образовались такими под влиянием приспособления и наследования. По мысли Лейбница, мышление согласуется с внешним миром, ибо Творец предусмотрел согласование. Спенсер думал, что согласование это имеется потому, что благодаря приспособлению и наследованию развился мыслительный мир.
Спенсер исходил из потребности естественного объяснения духовных явлений. Эту ориентацию он почерпнул из геологии Лайеля. В ней, правда, еще бытовала мысль о том, что органические формы в постепенном развитии образовались одна из другой; но он прибегнул к одному важному аргументу, - что неорганические (геологические) образования земной поверхности возникают не вследствие мощных катастроф, а в ходе медленного, постепенного развития. Спенсер, который имел естественнонаучное образование и некоторое время работал в качестве инженера, тотчас оценил все значение концепции развития и применения её, несмотря на сопротивление Лайеля. Он применял её даже к объяснению духовных процессов. Уже в 1850 г. в "Социальной статике" он рассматривал социальное развитие по аналогии с органическим. Он познакомился с наследованиями зародышевого развития организмов Гарвея и Вельфа и погрузился в работы К. Е. Бэра, которые убедили его в том, что развитие состоит в том, что из состояния однообразия, аморфности постепенно образовалось многообразие, богатство различных форм. На первых стадиях зародышевого развития организмы обнаруживают признаки близкого сходства друг с другом, а позднее они существенно отличаются друг от друга. Дарвин довел до последнего совершенства эту концепцию развития: из немногих праорганизмов развивается все богатство форм органического мира.
От понятия развития Спенсер намеревался подняться к истинам предельного обобщения, которые, по его мнению, составляют цель человеческого стремления к познанию. В простейших явлениях пытался он найти уже подтверждение концепции развития. Подобно тому, как из рассеянных капелек воды собирается облако или из отдельных песчинок образуется песчаная гряда, так процессы развития концентрируют рассеянное вещество в определенное единство. Никаких иных процессов канто-лапласовская гипотеза о происхождении мира не допускают. Рассеянные частицы хаотической мировой туманности концентрируются. Организм возникает точно таким же образом. Рассеянные элементы концентрируются в тканях. Психологи могут заметить, как человек группирует разрозненные наблюдения во всеобщие истины. Внутри концентрированного целого происходит затем дифференциация. Первоначальная масса дифференцируется далее на отдельные небесные тела Солнечной системы; организм дифференцирует в себе отдельные органы.
Концентрирование чередуется с растворением. Когда процесс развития достигает определенной высоты, наступает некоторое равновесие. Человек, например, развивается до тех пор, пока не наступает максимально возможная гармония между его внутренними способностями и внешней природой. Но это состояние равновесия не может длиться долго: оно разрушается под натиском внешних сил. Процесс развития уступает место нисходящему процессу распадения. Концентрированная целостность распадается снова; космическое вновь возвращается в хаос. Процесс развития может начаться сызнова. Таким образом, Спенсер усматривает в мировом процессе ритмическую подвижную игру.
Разумеется, в плане сравнительного анализа истории мировоззрений небезынтересно отметить, что Спенсер из рассмотрения становления мировых явлений вынес мысли, существенно близкие идеям Гёте о становлении жизни. Вот описание роста растений у Гёте: "Подрастают, цветут ли, несут ли плоды растения, - это всегда одни и те же органы, которые в различных условиях и часто в измененных обликах исполняют предписания природы. Тот же самый орган, который на стебле распускается листом, принимая самые многообразные формы, стягивается затем в чашечку, раздвигается лепестками цветка, вновь концентрируется в органах опыления, чтобы в последний раз раздаться в образовании плодов". Если перенести это представление на весь мировой процесс, то получится Спенсерово сжатие и рассеяние вещества.
* * *
Спенсер и Милль оказали сильное влияние на развитие мировоззрений второй половины столетия. Высокая оценка, данная Миллем роли наблюдения и односторонняя разработка им метода наблюдающего познания, а также распространение Спенсером естественнонаучного представления на всю совокупность человеческого знания, - все это отвечало ощущению эпохи, усматривавшей в идеалистических воззрениях Фихте, Шеллинга, Гегеля только вырождение человеческого мышления, в то время как успехи естественнонаучного исследования завоевали исключительное признание. Разногласия среди идеалистических мыслителей и общепризнанная полная несостоятельность углубленного в себя самое мышления породили глубокое недоверие к идеализму. Вот как устами Рудольфа Вирхова высказывается одно из наиболее популярных в последние четыре десятилетия воззрений (1893). В своей речи "Основание Берлинского университета и переход из философской эпохи в эпоху естественнонаучную" Вирхов сказал: "С тех пор, как вера в заклинание пошатнулась в самых широких кругах населения, пошла также на убыль вера в авторитет формулировок натурфилософов". Или суждение одного из маститых философов второй половины столетия Э. фон Гартмана, которое он поставил под заголовком своей книги "Философия бессознательного" - "Спекулятивные результаты по индуктивно-естественнонаучному методу", - это мотто, выражающее характер его мировоззрения. Он полагает, конечно, что надо признать "величие достигнутого Миллем процесса… благодаря которому навсегда преодолены искусы дедуктивного философствования".(см. Эдуард фон Гартман, "История метафизики" часть 2 стр.479)
Вместе с тем признание известных границ человеческого познания, удостоверенное множеством естествоиспытателей, вызывало симпатии религиозно настроенных умов. Они говорили себе: естествоиспытатели наблюдали неорганические и органические факты и, сочетая отдельные явления, старались найти общие законы, с помощью которых удалось бы объяснить определенные процессы и наперед предсказывать ход будущих явлений. Точно так же должно было поступать всеохватывающее мировоззрение; оно должно было придерживаться фактов, исследовать, опираясь на них, общие истины в скромных рамках и, ни в малейшей степени не претендовать на проникновение в область "непостижимого". Спенсер с его последовательным разграничением "постижимого" и "непостижимого" в высшей степени угождал подобным религиозным потребностям. Напротив идеалистический способ представления рассматривался религиозно настроенными мыслителями как некоторая экстравагантность. Идеалисты не могли в принципе одобрить "непостижимого", так как это противоречило их утверждению о том, что благодаря погружению во внутреннюю жизнь познания можно познать не только внешнюю сторону мирового бытия, но также и действительное ядро его.
В русле этих религиозно настроенных мыслителей движется мысль такого влиятельного естествоиспытателя, как Хаксли, который исповедовал совершенный агностицизм по отношению к существу мира и считал возможным только познание внешней стороны природы целиком в смысле дарвинистской интерпретации монизма. Он одним из первых выступил в поддержку дарвиновской манеры представления и вместе с тем решительно указал на ее ограниченность. К подобному взгляду склонялся и физик Джон Тиндаль (1820-1893), признававший в мировом процессе наличие некоей силы, совершенно недоступной человеческому рассудку. Ибо если предположить, что все в мире проистекает вследствие естественного развития, отсюда невозможно заключить о том, что вещество, которое все-таки является носителем всего развития, есть не что иное, как только то, что может знать о нем наш рассудок.
* * *
Одним из характерных для того времени явлений был английский государственный чиновник Джеймс Бальфур, изложивший в 1879 г. свое вероисповедание, импонировавшее широким кругам общественности. По отношению ко всему тому, что в состоянии объяснить себе человек, он стоит на почве естественнонаучного мышления. По его мнению, познание природы исчерпывает все познание. Но при этом он утверждает, что только тот правильно оценивает естественнонаучное познание, кто вполне сознает, что оно не может удовлетворить потребностей души и разума человека. Достаточно лишь увидеть, что в конце концов , и в естествознании все сводится к тому, чтобы поверить в последние истины, которые уже нельзя доказать. Правда, это не вредит нам при наших действиях в повседневной жизни, когда мы руководствуемся этой верой. Мы веруем в законы природы и овладеваем ими с помощью веры; верой мы заставляем природу служить нашим целям. Религиозная вера должна подобным образом согласовывать смысл человеческих действий с высшими потребностями человека.
Мировоззрения, объединённые здесь под заглавием "Мир как иллюзия", показывают, что в основе их лежит поиск достоверного отношения представления о самосознающем "я" к общей картине мира. Они кажутся особенно значительными именно благодаря тому, что этот поиск они не расценивают как свою сознательную философскую цель и не ориентируют на эту цель свои исследования, но они как бы инстинктивно задают своей манере представления тот облик, который определяется этими исканиями как бессознательным импульсом. И вид этих исканий такой, как он обусловлен новыми естественнонаучными представлениями. - Можно приблизиться к характеру этих представлений, если придерживаться понятия "сознание". Это понятие с подобающей ему отчетливостью было введено в новую мировоззренческую жизнь Р. Декартом. До тех пор пользовались понятием души как таковой. То, что душа только часть своей жизни проводит с сознательными явлениями, - об этом мало задумывались. Во сне душа живет все-таки бессознательно. Следовательно, по отношению к сознательной жизни её существо должно состоять в более глубоких силах, которые она из подоснов своего существа поднимает к сознанию только во время бодрствования. И по мере того, как приходят к вопросу о достоверности и ценности познаний, опирающихся на представления, начинают также ощущать, что наиболее достоверное из всех познаний душа находит лишь в том случае, если она не выходит за пределы сознания ни вне себя, ни в глубинах собственного существа. Обычно полагают, что также и многое другое может быть недостоверным; содержание сознания как таковое, по крайней мере, достоверно. Допустим, дом, мимо которого я прохожу, не существует вне меня; главное в том, чтобы понять, что образ этого дома живет в моем сознании сейчас. Но как только внимание направлено на сознание, надо сразу уразуметь, что понятие "я" сращено с понятием "сознание". Может ли быть "я" какой-либо сущностью вне сознания? Доколе простирается сознание, дотоле надо представлять себе протяженность сферы "я". Однако вовсе не следует отрицать и то, что стоящая перед душой чувственная картина мира возникает благодаря впечатлениям, которые мир дает человеку. Но утвердившись в этом суждении, не можешь запросто от него отделаться. Ибо здесь возможна незаметная подмена суждения: процессы мира есть причина; то, что находится в сознании - следствие. Те, кто усматривают в сознании лишь следствие, полагают, при этом, что причины заключаются во внешнем для человека мире в качестве не воспринимаемой "вещи-в-себе". Рассмотренное выше описание показывает, как новые физиологические познания содействуют укреплению этого мнения. Это и есть то самое мнение, благодаря которому "я" с его субъективными переживаниями оказывается целиком заключенным в собственном своем мире. Эта интеллектуальная, изобретательная, остроумно произведённая иллюзия, будучи однажды построена, до тех пор остаётся нерушимой, пока "я" не найдет в себе самом нечто такое, о чем оно знает, что хотя это нечто отображается в сознании, но существо его находится вне субъективного сознания. Вне чувственного сознания "я" должно чувствовать соприкосновение с существами, которые сами гарантируют себе свое бытие.
"Я" должно найти в себе нечто такое, что выводит его за пределы его самого. Этому может содействовать все то, что сказано об оживлении мышления. Если "я" переживает мысль только в себе самом, то оно чувствует себя опять-таки в себе вместе с мыслью. Как только мысль начинает жить собственной жизнью, она вырывает "я" из его субъективной жизни. Происходит некоторый процесс, который хотя и переживается "я" субъективно, но который по своей собственной природе все же объективен и отнимает у "я" все то, что оно может ощутить лишь как субъективное. Очевидно, что и представления о мире как иллюзии стремятся к цели, лежащей в дальнейшем продолжении гегелевской картины мира к становящемуся живым мышлению. Эти представления формируется так, как это подобает картине мировоззрения, бессознательно следующей импульсу, заложенному в этой цели, но лишенному силы работать, устремляясь к ней. Также и в несовершенстве своем они несут отпечаток той цели, и идеи их суть внешние симптомы деятельных сил, остающихся скрытыми.
Эта цель господствует в подосновах новой мировоззренческой эволюции. Мировоззрению, которое выступает, недостаёт силы, чтобы пробиться к этой цели. Но при своём несовершенстве оно сохраняет отпечаток этой цели: и выступающие идеи являются внешним симптомом действенных сил, остающихся в скрытом состоянии.
ОТЗВУКИ КАНТИАНСКОГО ОБРАЗА МЫСЛЕЙ
Невелико число тех личностей, которые во II пол. XIX в. самопогружением в гегелевские идеи стремились обрести достоверность отношения представления о самосознающем "я" к всеобщей картине мира. Одним из лучших представителей этого направления был рано умерший Пауль Асмус, опубликовавший в 1873 г. книгу " "Я" и вещь-в-себе". Он показывает, как способом, которым Гегель рассматривал мир идей и мышление следует достичь отношения человека к сущности вещи. С необыкновенной проницательностью он доказывает, что в человеческом мышлении нет ничего чуждого действительности, но, напротив, оно представляет собой нечто исполненное бьющей через край жизнью и пра-действительное (Urwirkliches), во что надо лишь погрузиться, чтобы достигнуть сущности бытия. С завидной ясностью и убедительностью он показывает, каким путем должна пойти мировоззренческая эволюция, чтобы от Канта, рассматривавшего "вещь-в-себе" как нечто чуждое и недоступное, придти к Гегелю, который полагал, что мысль постигает не только себя самое как идеальную сущность, но также и "вещь-в-себе". Однако подобные возгласы едва ли могли достигнуть слуха современников. Им был больше по вкусу призыв "Назад к Канту!", прозвучавший в речи Эдуарда Целлера "О значении и задаче теории познания" в Гейдельбергском университете и составившей умонастроение целого философского течения. Частью бессознательные, частью сознательные представления, стимулировавшие этот призыв, выражаются примерно так: естествознание поколебало доверие людей к самостоятельному мышлению, намеревающемуся собственными силами придти к высшим вопросам бытия. Но мы все-таки не можем успокоится на пассивном усвоении результатов естествознания, ибо они не дают проникнуть за внешнюю сторону вещей, за которой находятся ещё скрытые подосновы бытия. Ведь сама естественная наука показывает, что окружающий нас мир красок, звуков и т. п., не является действительностью вовне в объективном мире, но что этот мир красок, звуков и т. п. возникает благодаря наличию наших органов чувств и мозга. (См. нач. гл. "Мир как иллюзия") Стало быть, необходимо поставить вопрос: в какой мере естественнонаучные достижения выводят за собственные пределы в направлении высших задач? Что есть существо нашего познания? Может ли это познание привести нас к разрешению этих высших задач? Кант со всею ясностью поставил подобные вопросы. Необходимо проследить, как он это сделал, чтобы занять правильную позицию по отношению к нему. Надо со всей последовательностью продумать мыслительные ходы Канта, чтобы через развитие его идей, через отклонение его заблуждений найти выход из беспомощности.
Некоторые мыслители пытались, отталкиваясь от основных постулатов Канта, придти к какой-нибудь цели. Наиболее значительными среди них были Герман Коген, Отто Либман, Вильгельм Виндельбанд, Иоганн Фолькельт, Бенно Эрдман. - Много проницательности и остроумия можно заметить в трудах этих мужей, посвятивших большие усилия исследованию природы и действительности человеческой познавательной способности. Иоганн Фолькельт, который как теоретик познания находился целиком в этом течении и даже сам написал весьма основательное сочинение: " Теории познания Канта" (1879 г.) и который в русле этого философского течения опубликовал книгу "Опыт и мышление" (1885 г.), трактующую все вопросы, определяющие этот образ мыслей. При своем вступлении на кафедру в Базеле (1884) произнес речь о том, что всякое мышление, выходящее за пределы результатов отдельных фактических наук, "должно носить беспокойный характер поиска и слежения, опробования, оспаривания и опоры на себя"; "это такое движение вперед, которое снова частично отступает; уступка, которая до некоторой степени снова становится захватом" (Фолькельт. О возможности метафизики. Гамбург и Лейпциг, нем. изд. 1884). Остроумно нюансирован новый подход к Канту у Отто Либмана. Его работы "К анализу действительности" (1876), далее "Мысли и факты" (1882) и "Климакс теории" (1884) представляют собой истинные образцы философской критики. С гениальной проникновенностью въедливый рассудок автора вскрывает противоречия в мыслительных мирах, показывает половинчатость с виду убедительных суждений, неудовлетворительность и легкую уязвимость частных наук перед лицом высшего трибунала (Denktribunal) мышления. Либман вскрывает противоречия дарвинизма, неосновательность его посылок и пробелы в развитии мысли. Он говорит, что должно быть нечто такое, что выводит нас за пределы противоречий, заполняет пробелы, обосновывает предположения. Весьма примечательны слова, которыми заканчивается его рассмотрение природы живых существ: "То обстоятельство, что семена растений, многие столетия пролежавшие в сухом месте, не утрачивают своей способности прорастания (как, например, семена пшеницы, найденные в саркофаге египетской мумии после тысяч лет пребывания в герметической сухой среде, дали прекрасные всходы во влажной почве), что, далее, ресничные и другие инфузории, собранные на водосточной трубе в сухую погоду, вновь оживают при малейшем увлажнении дождевой водой, и более того, - даже лягушки и рыбы, превратившиеся в ледяные глыбы в замерзшей воде, при оттаивании быстро возвращаются к жизни, - это обстоятельство вызывает противоречивые толкования… Одним словом всякое категорическое утверждение в подобном случае явилось бы нелепым догматизмом. Поэтому мы здесь умолкаем". Эти слова "Поэтому мы здесь умолкаем" в сущности, если и не по букве, то по смыслу являются заключительным мыслительным выводом всякого либмановского рассмотрения. Можно даже сказать, что это итоговая мысль всех вообще новых сторонников и работников кантианства. - Представители этого направления не могут подвинуться далее известного утверждения, что они воспринимают вещи в своем сознании, что, стало быть, все то, что они видят, слышат и т. д., находится не вне их в мире, а в них самих; и что с тем, что пребывает вне сознания, делать собственно нечего. Передо мной стоит стол, - говорит неокантианец. - Но это не более, чем видимость. Только человек наивный в вопросах мировоззрения осмелится утверждать, что вне его находится стол. Тот, кто покончил с наивностью, скажет себе: Нечто неизвестное производит впечатление на мой глаз; этот глаз и мой мозг делают из этого впечатления ощущение коричневого. И поскольку я имею ощущение коричневого не в одной единственной точке, а даю своему глазу скользить по всей плоскости и четырем похожим на столбы образованиям, то впечатление коричневого формируется у меня в предмет, каковым оказывается стол. И когда я трогаю стол, он оказывает мне сопротивление. Он производит впечатление на мое осязание, которое я выражаю таким образом, что приписываю твердость образованию, созданному глазом. Итак, по распоряжению какой-то неведомой "вещи-в-себе", я произвожу из меня представление о столе. Стол есть мое представление. Он имеется только в моем сознании. Фолькельт изображает это воззрение в начале своей книги "Теория познания Канта"; "Первое фундаментальное положение, которое надлежит усвоить философу, состоит в понимании того, что знание наше сначала не простирается далее представлений. Наши представления - единственное, что непосредственно испытываем мы, непосредственно переживаем. И потому именно, что непосредственно мы их переживаем, знание о них не может разрушить даже самое радикальное сомнение. И наоборот, знание, которое как-то превосходит мои представления (я употребляю это выражение в самом широком смысле слова, так что всякое физическое событие подпадает сюда), власти сомнения противиться не в силах. Посему в начале всякого философствования необходимо отодвинуть все возвышающиеся над представлениями, и, стало быть, сомнительные знания". Отто Либман использует эту мысль для защиты следующего соображения: человек в равной мере мало может знать о том, существуют ли представляемые им вещи вне его сознания или не существуют. "Именно потому, что в действительности ни один представляющий субъект не может выйти из сферы своего субъективного представления; как раз потому, что никто и никогда не может, перепрыгнув собственное сознание и эмансипировавшись от себя самого, понять и констатировать то, что существует или не существует по ту сторону и вне его субъективности; именно поэтому бессмысленно пытаться доказать, что представляемый объект за пределами субъективного представления не существует" (О. Либман, К анализу действительности, нем. изд. с. 28).
Как Фолькельт, так и Либман, стараются, однако, убедить читателя, что в мире своих представлений человек обнаруживает нечто такое, что является не просто воспринятым, но примысленным к воспринятому и что, по крайней мере, намекает на существо вещей. Фолькельт придерживается взгляда, что в жизни самих представлений имеется факт, указывающий на нечто выше этой чистой жизни представлений, на то, что лежит вне этой жизни представлений. Факт этот состоит в том, что некоторые представления возникают в человеке с логической необходимостью. В своём сочинении "Источник достоверности для человека" нем. изд. 1906, стр. 3, мы читаем высказывание Фолькельта: "Когда вопрошают, на чем покоится достоверность нашего познания, наталкиваются на два первоистока, источника достоверности. И появись потребность внутреннего взаимодействия обоих способов установления достоверности - ради возникновения познания, - но их невозможно свести один к другому. Один источник достоверности - это само-достоверностьность сознания, внутреннее бытие (Innesein) фактов моего сознания. Так воспринимаю я сознание, так, удостоверившись в моем сознании, воспринимаю я некоторые процессы и состояния, некоторые содержания и формы. Без этого источника достоверности не могло бы быть никакого познания; оно дает нам материал, из обработки коего мы только и получаем все познания. Другим источником достоверности является мыслительная необходимость, достоверность логического принуждения, сознание предметной необходимости. Тем самым дано нечто безусловно новое, что невозможно добыть из само-достоверности сознания". Тем самым просто напросто даётся нечто новое, чего невозможно достичь из само-достоверности сознания. Этот второй источник достоверности познания Фолькельт в своём ранее названном сочинении характеризует следующим образом: "Непосредственный опыт дает нам пережить на деле, что некоторые сочленения понятий влекут за собой в высшей степени своеобразное принуждение, которое существенно отличается от всех других видов принуждения, сопутствующего представлениям. Это принуждение заставляет нас не только мыслить себе сопричастность некоторых понятий друг другу в сознательном представлении, но полагать также наличие соответствующей объективной, существующей независимо от сознательного представления, необходимой сопринадлежности (понятий). И далее это принуждение заставляет нас не так, как если бы невыполнение предписываемого ею ставило под угрозу наше моральное удовлетворение или наше внутреннее счастье, благополучие и т. п., но оно действует так, что объективное бытие упраздняется в себе самом, утрачивает возможность существования, если имеет место противоположность того, что предписывается принуждением этим. Таким образом, особенность этого принуждения состоит в том, что появляется мысль о наличии альтернативы притесняющей нас необходимости, и эта альтернатива затрагивает нас непосредственно как требование, что реальность должна возмутиться против условий своего существования. Мы, как водится, характеризуем это своеобразное, непосредственно переживаемое принуждение как логическое принуждение, как мыслительную необходимость. Логически необходимое открывается нам непосредственно как изъяснение самого предмета. Имеется своеобразное смысловое значение, разумное просветление, содержащееся во всем логическом, благодаря чему с непосредственной очевидностью для предметного, реального порядка создается логический строй понятийных связей" (Фолькельт, Кантова теория познания, нем., с. 208). Также и Отто Либман в конце своей книги "Климакс теорий" высказывает твердое убеждение в том, что все мыслительное здание человеческого познания, от земных недр наблюдения до воздушных сфер высших мировоззренческих гипотез, пронизано мыслями, указующими за пределы восприятия и что "обломки восприятия могут быть собраны в прочный порядок лишь по мере восполнения (посредством определенных рассудочных процедур) за счет невообразимо большого числа вещей, наблюдению недоступных". Но как же, все-таки человеческому мышлению отказать в способности познавать нечто, исходя из себя самого, из своей собственной деятельностью, если приходится призывать эту собственную деятельность уже для обозрения порядка наблюдаемых фактов восприятия? Неокантианство оказывается в странном положении. Оно предпочло бы оставаться внутри сознания, внутри жизни представлений, однако оно вынуждено сознаться, что не в силах сделать ни одного шага, который бы не уводил его ни влево, ни вправо от этого "внутри". Вот что говорит Отто Либман в заключение своей второй тетради "Мысли и факты": "Если смотреть с точки зрения естественной науки, то человек представляет собой не более чем оживленный прах; если же рассматривать его с точки зрения единственно и непосредственно доступной нам, - вся являющаяся в пространстве и времени природа есть антропоцентричный феномен".
Хотя воззрение о том, что наблюдаемый мир есть человеческое представление, должно разрушиться, когда его правильно понимают, его сторонники все же многочисленны. Они неизменно повторяется в различных оттенках в последние десятилетия XIX в. Так, Эрнст Лаас (1837 - 1885) энергично отстаивает воззрение, что внутри познания должны перерабатываться только позитивные факты восприятия. Его современник Алоис Рисль (1834-?), исходя из того же воззрения, утверждает, что вообще не может быть всеобщего мировоззрения, но что все выходящее за пределы отдельных наук, является ничем иным, как критикой познания. Познавать можно только в области отдельных наук; философия имеет целью показать, как происходит познание и печется о том, чтобы в познание не замешалось ничего такого, что не согласуется с фактами. Наиболее радикальным здесь является суждение Рихарда Вале в его книге "Целостность философии и ее конец" (1894). С редкостным остроумием пытается он удалить из познания все то, что привнесено человеческим духом к "происшествиям" мира. В конце концов этот человеческий дух оказывается один-одинешенек в море перекатывающихся происшествий и, ощущая себя таким же происшествием (Vorkommnisse), беспомощно озирается он окрест, не находя никакой опоры, чтобы объяснить себе смысл этих происшествий. Этот дух должен был бы напрягать собственную силу, чтобы упорядочить происшествия (явления), опираясь на самое себя. Но тогда, стало быть, он-то и является тем, кто вносит в природу этот порядок. Если он высказывает нечто о существе происшествий, то берется это не из вещей, а из него самого. Это может иметь место лишь в том случае, если он признается себе, что в его деянии разыгрывается нечто существенное, если он может предположить, что это что-нибудь значит и для вещей, когда он что-то говорит. Этого доверия, по мысли Вале, дух не имеет. Он должен положить руки в карманы и смотреть, что собственно происходит в нём и вокруг него. И он сильно заблуждался бы, если позволил бы себе в связи с наблюдениями высказать нечто такое, что он думал о происшествиях. "Что мог бы, в конце концов найти дух, разведывающий в лабиринте бытия и вопрошающий о существе и цели происходящего? Ему бы открылось, что он, пребывающий в мнимом противоречии с окружающим миром, в действительности полностью растворяется в потоке происшествий. Он ничего более не ведает о мире и не уверен в том, что там вообще есть место знающему, - похоже, что нет там ничего, кроме происшествий. Но эти последние громоздятся, правда, таким образом, что может преждевременно возникнуть понятие знания… И тогда всплывают "понятия", чтобы просветлить происшествия бытия; но это только блуждающие огни, порождаемые вожделением души к знанию, жалкие, в своей очевидности ничего не говорящие постулаты некоторой неполной формы знания. Неведомые факторы должны править в переменах. Их природа окутана тьмою, происшествия суть только вуаль действительности…" И Вале заключает свою книгу, долженствующую утвердить "превосходство" философии над теологией, физиологией, эстетикой и государственной педагогикой, следующим изречением: "Настанет когда-нибудь время, когда будут говорить: некогда была философия".
Указанное сочинение Вале наряду с его "Историческим обозрением развития философии" (1895) и "О механизме духовной жизни" (1906) является важным симптомом мировоззренческой эволюции в XIX столетии. Недоверие к познанию, из коего исходит Кант, выливается в создание мыслительного мира (Вале), пронизанного полнейшим неверием во все мировоззрение.
МИРОВОЗЗРЕНИЯ НАУЧНОЙ ФАКТИЧНОСТИ
Попытка построить мировоззрение и жизненные принципы, отправляясь от элементарных положений строгой науки, была предпринята в XIX в. Огюстом Контом (1798-1859). Это предпринятая в шестом томе контовского курса "Позитивной философии" (1830-1842) попытка показать всеобъемлющую картину мира, находится в резком противоречии к идеалистическим воззрениям Фихте, Шеллинга, Гегеля в первой половине столетия, а также - в менее остром, но все-таки отчетливом конфликте со всеми мыслительными построениями, берущими начало в ламарко-дарвиновских идеях развития. То, что у Гегеля составляет средоточие всего мировоззрения, а именно рассмотрение и постижение собственного духа в человеке, Конт категорически отклоняет. Он говорит себе: если человеческий дух хочет рассматривать самого себя, то ему придется раздвоится как раз на две персоны; ему потребуется выскользнуть из самого себя и противостоять самому себе. Уже психология, которая не исчерпывается физиологическим рассмотрением, но желает иметь дело с духовными процессами, по Конту, невозможна. Все то, что хочет быть предметом познания, должно ориентироваться на объективные взаимосвязи фактов, должно излагаться столь же объективно, как законы математических наук. И отсюда проистекает также противоположность Конта тому, что Спенсер и естественнонаучные мыслители, опирающиеся на Ламарка и Дарвина, пытались обосновать своей картиной мира. Для Конта человеческий род стоит незыблемо и неизменно; он ничего не желает знать о теории Ламарка. Простые, прозрачные природные законы, наподобие тех, которые применяются в физике представляются ему идеалом познания. И до тех пор, пока наука не станет работать с такими простыми законами, она, по мнению Конта, не составляет адекватного инструмента познания. Он мыслит математически. И все то, что не является столь же прозрачным и простым, как математические проблемы казалось ему не созревшим для науки. У Конта не было ни малейшего предчувствия, что необходимы все более живые идеи по мере того, как от чисто механических и физических процессов восходят к более высоким природным образованиям и к самому человеку. Отсюда в его мировоззрении есть что-то мертвое, окоченевшее. Весь мир рисуется здесь шестернями некоей машины. Всюду Конт смотрит мимо живого; он изгоняет жизнь и дух из вещей и рассматривает попросту их остов или схему. Вся содержательная историческая жизнь человека в его изображении принимает вид той понятийной картины, которую астроном создает для движения небесных тел. Конт начертал следующую иерархию наук: низшую ступень занимает математика, затем идут физика, химия и далее - наука о живых существах, на вершине находится социология, наука о человеческом обществе. Его стремление состояло в том, чтобы упростить все науки по образцу математики. Феномены, которыми занимаются отдельные науки, постоянно изменяются, а законы в принципе остаются те же.
* * *
Волны, поднятые мыслью Гольбаха, Кондильяка и других, все-таки еще отчетливо заметны в лекциях, об "Отношении души к телу" Пьера Жана Кабаниса (1797-1798) прочитанных в основанной Конвентом в Париже высшей школе. Эти доклады все же следует рассматривать как начало мировоззренческой эволюции во Франции в XIX в., в них выражается ясное понимание того, что образ мыслей Кондильяка не может применяться к явлениям душевной жизни, поскольку он несет на себе печать естественнонаучных воззрений. Кабанис исследовал влияние возраста, пола, образа жизни, темперамента на мышление и эмоции человека. По его представлению, духовное и телесное не являются диаметрально противоположными сущностями, не имеющими ничего общего, но образуют нераздельную целостность. Не само основное воззрение отличает его от предшественников, а только способ его построения. Те попросту переносили на духовный мир познания, приобретенные при исследовании неорганического мира; Кабанис сказал себе: посмотрим сначала на духовное с той же непредвзятостью, с которой мы наблюдали неорганическое, и тогда нам откроется его отношение к другим явлениям природы.
Подобным образом рассуждал Дестут де Траси (1754-1836). Также и он настаивал на непредвзятом рассмотрении духовных процессов. Нам не избежать заблуждений, подчеркивал этот мыслитель, если мы подойдем к душе с автоматическими представлениями Кондильяка и его последователей. Мы вообще не пришли бы к такому автоматизму, если бы правильно познавали себя. В себе самих мы не находим никаких автоматов, т. е. существ, приводимых в движение внешними рычагами. Мы во всякое время обнаруживаем в себе самостоятельность собственного существа. И мы ничего не знали бы о действии внешнего мира, если бы не ощущали в себе некоторого нарушения из-за столкновения с внешним миром. Мы переживаем себя самих; мы развиваем в нас нашу деятельность; но когда мы делаем это, мы наталкиваемся на сопротивление; мы замечаем, что кроме нас присутствует здесь еще нечто сопротивляющееся нам, - внешний мир.
Двое мыслителей - Мэн де Биран (1766-1824) и Андре- Мари Ампер (1775-1826) - хотя и исходили от учения Детраси, но в своем самонаблюдении вышли к совершенно иным перспективам. Биран - вдумчивый наблюдатель человеческого духа. То, что у Руссо выступает как наитие, целиком подверженное капризам настроения, является у него сознательным усилием ясного и содержательного мышления. Биран как проницательный психолог делает предметом своего рассмотрения оба основных фактора внутренней жизни: то, чем является человек в силу природы своей сущности, своего темперамента, и то, что он делает из себя собственным активным вмешательством. Он исследует разветвления и метаморфозы внутренней жизни; во внутреннем мире человека находит он источник познания. Силы, которые мы знаем в своем внутреннем мире, суть наши близкие знакомые; внешний мир мы знаем лишь постольку, поскольку он представляется подобным или родственным нашему внутреннему миру. Что знали бы мы о силах во внешней природе, если бы мы действительно не были знакомы посредством переживания с некоторой силой в самодеятельной душе, с которой мы можем затем сравнивать то, что как подобная сила выступает нам навстречу во внешнем мире. Поэтому Биран без устали исследует процессы в собственной душе человека. Он сосредоточивает свое внимание на непроизвольном, бессознательном в душевной жизни, на тех духовных процессах, которые происходят в душе, когда она освещается светом сознания. Поиски мудрости в душе впоследствии привели Бирана к своеобразной мистике. Если мы черпаем из души глубочайшую мудрость, то, стало быть, к праосновам бытия мы приближаемся тогда, когда погружаемся в себя. Переживание глубочайших душевых процессов есть, таким образом, вживание в первоисточник бытия, в Бога в нас.
Привлекательность Бирановой мудрости заключается в интимной манере её преподнесения. Он не нашел также и иной формы изложения, кроме дневника - "Journal intime". Работы Бирана, которые вводят в глубины его мыслительного мира, были изданы уже посмертно Э. Навилем. Но еще при жизни мыслителя духом его воззрений проникся Андре Ампер, получивший мировую известность благодаря продолжению исследований Ганса Христиана Орстеда в области отношений электричества и магнетизма. Метод Бирана склоняется к интимности, а метод Ампера - к научной скрупулезности. Он исследовал, во-первых, сочленение ощущений и представлений в душе, а, во-вторых, - как дух с помощью своего мышления приходит к науке о явлениях мира.
Всю значимость этого мировоззренческого течения следует усматривать в том, что оно, по времени примыкая к Кондильяку, решительно подчеркивает собственную жизнь души, выдвигает на первый план в рассмотрении самодеятельность внутренней человеческой личности, причем все упомянутые здесь мыслители обходятся с познанием в строго естественнонаучном смысле. Они исследуют дух естественнонаучно; но вместе с тем они не хотят духовные феномены поставить на одну доску с остальными природными процессами. Из их по преимуществу материалистических предпосылок, в конечном счете, зарождается устремление к духовному воззрению.
Виктор Кузен (1792-1868) много путешествовал по Германии и был лично знаком с выдающимися деятелями эпохи идеализма. Глубочайшее впечатление произвели на него Гегель и Гете. Их идеализм он перенес во Францию, коему хорошо послужил своим ораторским талантом сперва в Эколь нормаль (с 1814), а затем в Сорбонне . Из идеалистической духовной жизни Кузен вынес убеждение, что не благодаря изучению внешнего мира, а посредством исследования человеческого духа достигается удовлетворительная мировоззренческая позиция. На самонаблюдении души основал он все, что хотел сказать. У Гегеля почерпнул он также представление о том, что дух, идея, мысль господствуют не только во внутреннем человеке, но и во внешней природе и развитии исторической жизни, что разум присутствует в действительности. Он учил, что в характере народа или эпохи выражается не слепой произвол отдельных людей, а необходимая мысль, действительная идея, что даже великий муж является в мире только вестником великой идеи, чтобы осуществить ее в историческом становлении. Он производил глубокое впечатление на своих французских слушателей, желавших осмыслить всемирно-исторические потрясения в недавнем прошлом своей страны, когда с блестящим ораторским мастерством изображал разумность исторического становления на основе великих мировоззренческих мыслей.
Энергично и целенаправленно в это направление французского мировоззренческого развития становится Конт со своим основным тезисом: только в научности, которая исходит из столь строгих и наблюдаемых истин, какие известны в физике, химии, достойно искать отправной пункт для мировоззрения. Он признавал зрелым лишь такое мышление, которое подводит к этому воззрению. Чтобы придти к этому, человечество должно пережить две эпохи незрелости: одну ту, когда оно веровало в богов, и ту, когда оно предавалось абстрактным идеям. В восхождении от теологического через идеалистическое к научному мировоззрению усматривает Конт необходимый путь развития человечества. На первой стадии человек придумал себе богов, созданных им по его подобию и действующих в процессах природы с тем же произволом, что и он сам - в собственных учреждениях. Позднее он поставил на место богов абстрактные идеи вроде жизненной силы, всеобщего мирового разума, мировой целесообразности и т. п. Также и эта фаза развития должна была уступить место более высокой фазе. Надо было установить, что только в наблюдении и строгом математическом и логическом рассмотрении фактов возможно найти объяснение мировых явлений. Только то, что на этом пути могут исследовать физика, химия и биология, может привести мышление к целям мировоззрения. К тому, что исследуют отдельные науки, нельзя ничего прибавить из арсенала теологии с ее божественными сущностями или идеалистической философии с ее абстрактными идеями. Также и воззрения на ход человеческого развития, на совместную жизнь людей в государстве, в обществе и т. п. будут полностью понятны лишь тогда, когда они будут искать столь же строгие законы, как и естественные науки. Причины возникновения семьи, союзов, правосознания, государственных учреждений носят тот же характер, что и причины притяжения тел к земле или причины пищеварения животных. Наука о человеческой совместной жизни, социология, в особенности интересовала Конта. Он старается придать ей столь же строгий характер, который постепенно усвоили другие науки.
В этом направлении он нашел своего предшественника в лице К. Анри Сен-Симона (1760-1825). Сен-Симон полагал, что человек лишь тогда станет господином своей судьбы, если он в строго научном смысле будет строить свою жизнь в государстве, в обществе, истории, рассматривая социально-исторические закономерности по образцу законов природы. Некоторое время Конт испытывал самое искреннее расположение к Сен-Симону и отошел от него лишь тогда, когда тот ударился в беспочвенные социальные фантазии и утопизм. Конт продолжал до конца однажды избранный путь. Его "Курс позитивной философии" представляет собой попытку построить мировоззрение, опираясь исключительно на научные достижения его эпохи посредством простого их ориентировочного сопоставления и разработки социологии, игнорируя полностью теологические и идеалистические понятия. Задачу философии Конт упростил до степени популярного ориентировочного изложения естественнонаучных знаний. К тому, что утверждают науки о взаимосвязи фактов, он ничего не прибавил. Таким образом, Конт радикально выразил убеждение, что единственно к наукам с их наблюдением действительности, с их методами, следует обращаться, если речь идёт о построении мировоззрения.
* * *
Пламенным поборником этих мыслей о непогрешимости научного мышления выступил в немецкой духовной жизни Ойген Дюринг (1833-1921) с его "Естественной диалектикой" (1865). Спустя 10 лет, в 1875 г., он предложил миру развернутую версию своих воззрений в книге "Курс философии как строго научного мировоззрения и образа жизни", а также в различных математических, естественнонаучных, философских, историко-научных и экономических работах. Все творчество Дюринга проистекает из строго математического и механистического образа мыслей. Дюринг достоин удивления в продумывании всего того, что в мировых явлениях достигается с математической закономерностью. Но там, где этого мышления недостаточно, он теряет всякую возможность найти себя в жизни. Отсюда - произвол и предвзятость, отличающие многие суждения Дюринга. Там, где право голоса принадлежит высоким идеям, как, например, в сложных отношениях совместной человеческой жизни, Дюринг не находит поэтому никакой иной опоры кроме произвольной личной наклонности, симпатий и антипатий. Он мыслит математически-объективно, но попадает в сумятицу полнейшего произвола, когда пытается оценить человеческие достижения исторического прошлого или современности. Его математическая сверхтрезвость заставила его рассматривать Гёте как наиболее невежественную личность эпохи, все значение которой исчерпывается в лирических произведениях. В недооценке всего того, что превосходит эфемерную действительность трезвости, невозможно пройти дальше того, что прошел Дюринг в его книге "Великие люди современной литературы". Но, несмотря на эту односторонность, Дюринг является одним из наиболее влиятельных людей в современном мировоззренческой эволюции. Никто углубляясь в его глубокомысленные работы, не станет отрицать, что он оказывает довольно значительное впечатление.
С весьма грубо отвергает Дюринг все те мировоззрения, которые исходят не из строго научных предпосылок. Все эти воззрения, минующие научность, "можно расценивать как проявления детской незрелости или как приступы лихорадки, или как старческие синдромы; под этим углом зрения они могут охватывать целые эпохи или умы поколений, или некоторые слои общества, но, так или иначе, они непременно относятся к сфере незрелости, патологии или к перезрелости, тронутой гнилью" ("Курс философии", с. 44 нем. оригинала). То, что было достигнуто Кантом, Фихте, Шеллингом, Гегелем он осуждает как цвет шарлатанской профессорской благоглупости; идеализм как мировоззрение представляется ему теорией слабоумия. Он намерен создать философию действительности, которой одной по плечу "устранить все искусственные и противоестественные преграды и сделать, наконец, понятие действительности мерой всех идеальных концепций"; при этом действительность "мыслится таким образом, что исключается любое тяготение к грезящим и субъективно ограниченным представлениям о мире" ("Курс философии", с. 13).
Следует думать, как думает настоящий механик или физик, который держится того, что воспринимают чувства, что логически комбинирует рассудок и что позволяет сказать исчисление. Все, что выходит за пределы этого, есть просто игра с понятиями. Так говорит Дюринг. Но этому мышлению он хочет также предоставить исключительные права. Кто придерживается единственно этого мышления, тот может быть уверен, что оно открывает ему весь мир. Всякое размышление о том, действительно ли мы нашим мышлением можем проникнуть в тайны мирового свершения, все исследования, которые, на манер Канта, пытаются ограничить способность познания, разрушают логику. Нельзя подпадать жертвенной самоотверженности рассудка, которая не позволяет высказать о мире что-нибудь позитивное. То, что мы можем знать, есть незамутненное представление действительного. "Целостность вещи есть систематический строй и логическая последовательность. Природа и история имеют такую конституцию и развитие, существо которых соответствует большей части общих логических отношений всех понятий. Общие свойства и отношения мыслительных понятий, которыми занимается логика, должны иметь значение также и для особенных случаев, так что ее предметом является целостность бытия наряду с его основными формами. Поскольку радикально общее мышление в широком смысле выносит суждения о том, что и как может быть, то высшие принципы и основные формы логики сохраняют определяющее значение для всей действительности и ее форм" ("Курс философии", с. 11). Действительность создала в человеческом мышлении орган, в котором она может воссоздать себя мыслительно, в идеальном, духовном образе. В природе всюду господствует всепроникающая закономерность, которая сама себе закон и которую нельзя порицать. Какой смысл в том, чтобы в области мышления, этом органе природы, заниматься критикой. Это глупость, - укорять природу в том, что она создала орган, в котором она являет лишь свое несовершенное и неполное отображение. Отсюда порядок и закономерность во внешней действительности должны соответствовать логическому порядку и закономерности человеческого мышления. "Идеальная система нашего мышления есть образ реальной системы объективной действительности; совершенное знание имеет в форме мыслей тот же облик, что и вещи в форме действительного бытия". - Вопреки этому общему согласованию между мышлением и действительностью, для мышления имеется-таки возможность выйти за пределы действительности. Мышление продолжает в идее те свойства, которые были ему напечатлены действительностью. В действительности каждое тело делимо только до определенной черты. Мышление не останавливается перед нею, продолжая в идее деление. Мысль улетучивается из действительности; она позволяет продолжать делимость тел до бесконечности, позволяет телу состоять из бесконечно малых частиц. В действительности каждое тело состоит лишь из совершенно определенного числа малых, но не бесконечно малых частей. Таким образом, возникает все преступающие действительность понятия бесконечности. Обыкновенно продвигаются от всякого события к другому событию, которое послужило его причиной, от этой причины - к другой причине. Как только мышление оставляет почву действительности, оно удаляется в бесконечность. Оно полагает, что для каждой причины надо искать очередную причину, что, стало быть, мир существует во времени без начала. Также и с пространственным наполнением мышление обходится подобным образом. Когда оно измеряет небесное пространство, оно находит позади наиболее отдаленных звезд все новые и новые небесные тела; оно выходит за пределы действительного факта, представляет себе пространство бесконечным и наполняет его бесчисленным количеством небесных тел. Нужно уяснить себе, говорит Дюринг, что подобные представления о бесконечном ничего общего с действительностью не имеют. Они возникают лишь благодаря тому, что мышление с методами, которые полностью соответствуют действительности, переходят за ее пределы и оказываются в безбрежности.
Если мышление осознает до конца свои расхождения с действительностью, тогда, согласно Дюрингу, ему нет нужды воздерживаться при перенесении понятий, подобающих человеческим деяниям, на природу. Дюринг не опасается, исходя из такой точки зрения, признать за природой право на фантазию в ее творчестве, как в творчестве людей. "Фантазия простирается в самой природе, она коренится, как вообще всякое мышление, в побуждениях, которые предшествуют готовому сознанию и не образуют ни одного элемента субъективно ощущаемого" ("Курс философии", с. 50). Дюринг с такой полнотой овладевает мыслью Конта о том, что всякое мировоззрение не должно быть ни чем иным, как только изложением чистых фактов, что он перемещает фантазию в мир фактов, потому что он верит, будто ее существование лишь в области человеческого духа подвержено сомнению. Отправляясь далее от этого представления, он продолжает переносить на природу те понятия, которые взяты из человеческой деятельности. Он, например, думает, что природа, как и человек, предпринимает безуспешные попытки и оставляет их, поскольку они не ведут к цели. "Характер пробного в формах не чужд действительности, и не ясно, почему по прихоти поверхностной философии параллелизм между природой в человеке и природой вне человека должен действовать только наполовину. Если субъективное заблуждение мышления и воображения исходит из относительной раздельности и самостоятельности этих сфер, то почему не должно также и практическое заблуждение или отклонение объективной и не мыслящей природы быть следствием относительного обособления и взаимного отчуждения различных ее частей и движущих сил? Подлинная и чуждая предвзятости философия должна не стесняться признания полного параллелизма и необходимого единства конституции на обе стороны" ("Курс философии", с. 51).
Таким образом, Дюринг не чурается переносить понятия, производимые мышлением в собственном лоне, на действительность. Но поскольку он, по всей своей наклонности, имеет чуткость только для математических представлений, то и картина мира получается у него явственный математико-механический отпечаток. Способ воззрения, разработанный Дарвином и Геккелем, вызывает в нем отвращение. Для него не имеет смысла вопрос о том, на каких основаниях одно существо развивается из другого. Но математик все-таки имеет дело с рядом расположенных друг с другом фигур: треугольник, прямоугольник, круг, эллипс, - почему же нельзя удовлетвориться подобным схематическим расположением друг рядом с другом в природе? Не из становления в природе, но из прочных образований, которые создаются комбинацией природных сил исходит Дюринг, рассматривая в качестве математика определённые, строго очерченные пространственные образования. И Дюринг не считает неуместным приписывать природе целесообразное усилие в выработке этих прочных формообразований. Хотя это стремление природы не аналогично сознательному усилию человека, но ему присуща та же естественная закономерность, коей отмечены все деяния природы. - Точка зрения Дюринга в этой связи диаметрально противоположна воззрению Фр. Ланге. В то время, как последний считает все высшие понятия, в которых участвует фантазия, авторизованным сочинительством, Дюринг отвергает всякое сочинительство в понятиях, но зато приписывает некоторым, неотъемлемым от него, идеям ранг действительности. Вполне понятно поэтому, что Ланге усматривает в основе морали все коренящиеся в действительности идеи, тогда как Дюринг распространяет на природу идеи, которые он находит в области нравственности. Он совершенно убежден в том, что все, что происходит в человеке и благодаря человеку, происходит столь же естественно, сколь и безжизненные процессы. Стало быть, все, что правильно в человеческой жизни, не может быть ложным в природе. Подобные размышления делают из него решительного противника дарвиновского учения о борьбе за бытие. Если бы в природе борьба всего против всего была бы действительным условием совершенствования, то это же легло бы в основание человеческой жизни. "Подобное представление, которое самовластно приписывает себе характер научности, прежде всего, абсолютно аморально. Характер природы, таким образом, усваивается в совершенно антиморальном смысле. Он понимается не просто безразлично по отношению к более великой человеческой морали, но как раз в совпадении и союзе с той безнравственностью, которая прославляет мошенников" ("Курс философии", с. 164). То, что человек ощущает как моральные импульсы, должно, по жизневоззрению Дюринга, иметь предпосылки уже в природе. В природе следует видеть ориентацию на нравственное. Подобно тому, как природа создает другие силы, которые целеустремленно комбинируются в твердые формообразования, так зароняет она в человеке симпатические инстинкты, определяющие его сосуществование с ближними. В человеке, следовательно, продолжается на высшей ступени деятельность природы. Безжизненным механическим силам Дюринг приписывает способность машинообразно производить из себя ощущения. "Механическая причинность природных сил, так сказать, субъективируется в фундаментальном ощущении. Факт этого элементарного процесса субъективации не может быть, очевидно, объяснен далее; ибо где-нибудь и при каких-либо обстоятельствах бессознательная механика мира должна придти к чувству самого себя" ("Курс философии", с. 147). Но если она достигает этого, то начинается не новая закономерность, царство духа, а просто развертывается все то, что имелось уже в бессознательной механике. Эта механика, правда, бессознательна, но мудра, ибо "Земля со всем тем, что она порождает, наряду с существующими вне неё на Солнце причинами поддержания жизни, а также вообще всякими влияниями, которые приходят из окружающей Вселенной, - все эти предпосылки и структуры должны рассматриваться неотъемлемыми от человека, т. е. должны мыслиться в согласии с его благом" ("Курс философии", с. 177).
* * *
Дюринг приписывает природе мысли и даже цели и моральные тенденции, не замечая, что он ее тем самым идеализирует. К объяснению природы принадлежат высокие, выходящие за сферу действительности идеи; но, согласно Дюрингу, таковых не должно быть; следовательно, он перетолковывает их в факты.
Нечто подобное жило в мировоззрении И.Х. фон Кирхмана, который выступил со своей "Философией знания" (1864) в то же самое время, что и Дюринг с его "Естественной диалектикой". Кирхман исходит из убеждения, что действительно лишь воспринимаемое. Благодаря восприятиям человек находится в связи с действительностью. Все, что человек обретает в обход восприятия: он должен вычеркнуть из своего познания действительного. Он достигает этого, исключая все противоречивое. "Противоречий не существует" - это второй тезис Кирхмана наряду с первым: "воспринимаемое существует".
Кирхман придаёт цену только чувствам и желаниям как тем душевным субстанциям человека, которые имеют бытие -для- себя. Знания он противополагает этим бытийственным состояниям души. "Знание образует некоторую противоположность двум другим состояниям - чувству и вожделению… В основе знания может лежать какой-нибудь духовный процесс, даже нечто подобное давлению или напряжению; но понятое так, знание не понято в своём существе. Как знание, и только как таковое оно рассматривается здесь, оно утаивает собственное бытие и делается только зеркалом чужого бытия. И лучшего, чем зеркало, сравнения придумать невозможно. Как зеркало тем совершеннее, чем полнее оно показывает на себя, а чужое бытие, так и знание. Его существо есть чистое отражение чужого бытия без всякой примеси собственного существования". Нельзя представить себе более яркой противоположности представлению Гегеля, чем этот взгляд на знание. В то время как у Гегеля в мыслях, т. е. в том, что душа своей собственной деятельностью присоединяет к восприятию, приходит к явлению само существо какой-либо вещи, Кирхман ставит перед знанием идеал, в котором ему отводится роль зеркального отражения восприятия, освобожденного от всяких собственно душевных примесей.
Если рассматривать значение Кирхмана в духовной жизни, то необходимо принять во внимание те большие препятствия, которые в ту пору встретил бы всякий человек, задумавший построить оригинальное мировоззрение. Естественнонаучные достижения, которые должны были оказать сильное влияние на мировоззренческую эволюцию, были еще невелики. Их влияние простиралось ровно до того, чтобы потрясти веру в классическое, идеалистическое мировоззрение, которое должно было воздвигать свое стройное, гордое здание без помощи новой естественной науки. Но нелегко было придти к новому выражению основных ориентирующих мыслей по отношению к полноте отдельных результатов. В широких кругах терялась нить, ведущая от научного познания фактов к общему воззрению на мир. Многих одолевала известная беспомощность в вопросах мировоззрения. Понимание для такого полета мысли, какой виден в мировоззрении Гегеля, найти было трудно.
СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Во второй половине XIX в. естественнонаучные представления благодаря трем мыслителям трижды сливались с идеалистической традицией из первой половины столетия, образуя мировоззрения, имевшие ярко выраженную индивидуальную физиогномию усилиями Германа Лотце (1817-1881), Густава Теодора Фехнера (1801-1887) и Эдуарда фон Гартмана (1842-1906).
В работе "Жизнь и жизненная сила" (1842) Лотце решительно выступил против верований в наличие особенной жизненной силы в живых существах и отстаивал мысль о том, что жизненные явления можно объяснить посредством сложных процессов того же рода, которые имеют место в неживой природе. Он, следовательно, становился в этом отношении всецело на сторону новых естественнонаучных представлений, которые пытались примирить старинное противоречие живым и безжизненным. В духе этого воззрения выдержаны его труды, рассматривающие естественнонаучные вещи: "Всеобщая патология и терапия как механические естественные науки" (1842) и "Всеобщая физиология телесной жизни" (1851). Работы Фехнера "Элементы психофизики" (1860) и "Подготовительная школа эстетики" (1876) несут на себе печать строго естественнонаучного воззрения, причем именно в тех областях, которые до него почти без исключения разрабатывались в смысле идеалистической манеры мышления. Лотце и Фехнер испытывали, однако, настоятельную потребность выйти за пределы естественнонаучного модуса представления и воздвигнуть идеалистический мыслительный мир. Лотце стремился к идеализму в силу своего душевного строя, который склонял его не только к мыслительному исследованию естественной закономерности в мире, но побуждал его искать во всех вещах и процессах жизни и внутреннего мира как ощущает их сам человек в собственной груди. Он "неизменно боролся с представлениями, которые охватывали только меньшую часть мира, только развертывание от одних фактов к новым фактам, от одних форм к новым формам, а не постоянное овнутрение всего внешнего к тому, что в мире является единственно ценным и истинным, к блаженству и сомнению, удивлению и отвращению, любви и ненависти, радостной уверенности и смятенному томлению, ко всем этим безымянным взлетам и падениям, в которых проходит та жизнь, которая единственно заслуживает названия жизни". Лотце преисполнен чувства, что человеческая картина природы останется черствой и холодной, если мы не внесем в нее представления, почерпнутые в душе человеческой. То, что у Лотце является следствием душевного склада, у Фехнера - плод высокоразвитой фантазии, которая действует таким образом, что уклоняясь от логического постижения вещей, она все время тяготеет к поэтизированному представлению. Он не может позволить себе как естественнонаучный мыслитель, удовлетвориться на простом отыскании предпосылок возникновения человека, а также определении законов, в силу которых ему надлежит умереть в свой срок. Для него рождение и смерть являются событиями, которые ведут его фантазию к признанию жизни до рождения и после смерти. "Человек, - говорит Фехнер в "Книжечке о жизни после смерти", - живет на Земле не однажды, а трижды. Его первая жизненная ступень - непрерывный сон, вторая - чередование сна и бодрствования, а третья - вечное бодрствование. На первой ступени человек живет одиноко во тьме. На второй ступени живет он обособленно и блаженно наряду и среди других в свете, который отражает ему поверхность, на третьей его жизнь восходит к более высокой жизни в высшем духе, и он проникает в существо конечных вещей. - На первой ступени тело развивается из зародыша и создает себе инструменты для второй ступени, на второй развивается из зародыша дух и создает себе инструменты для третьей; на третьей развивается божественное семя, которое лежит в духе каждого человека, и уже здесь в темном для нас, но для духа третьей ступени светлом потустороннем через предчувствие, веру, чувство и инстинкт гения указывает за пределы человека. Переход от первой ко второй ступени называется рождением; переход от второй к третьей - смертью".
Лотце изложил картину мировых явлений, как они отвечали потребностям его души в своем труде "Микрокосмос" (1856-1864), а также - в "Трех книгах логики" (1874) и "Трех книгах метафизики" (1879). Были еще опубликованы записи докладов, в которых он касается различных областей философии. Его метод представляет собой исследование собственно естественной закономерности в мире и последующее оправдание этой закономерности в смысле идеального, гармонического, исполненного душевности порядка и действенности мировой основы. Мы видим, как одна вещь действует на другую, но это действие не могло бы состоятся, если бы между ними не было бы изначального родства и единства. Второй вещи должно быть безразлично, что совершает первая, если бы она не обладала способностью осуществлять собственную деятельность в смысле того, чего желает первая вещь. Один шар может быть приведен в движение ударом другого шара только в том случае, если он пойдет, так сказать, с пониманием навстречу другому шару, если во втором шаре то же понимание движения, что и в первом. Способность движения есть нечто такое, что равно присуще как первому, так и второму шару. Все вещи и процессы должны иметь в себе это общее. То, что мы воспринимаем их как вещи и процессы, отделенные друг от друга, объясняется тем, что при нашем наблюдении мы воспринимаем только их внешнюю сторону. Если бы мы заглянули в их внутреннее, то нам открылось бы не то, что их разделяет, а то, что связует их с великим мировым целым. Одно только существо имеется у нас, которое мы вольны не только оглядывать, но в которое можем вглядеться. То наша собственная душа, целокупность нашей духовной личности. Но поскольку все вещи имеют в своем внутреннем нечто общее, они, следовательно, имеют общим с нашей душой как раз то, что составляет ее самое сокровенное. Посему мы должны представлять себе внутреннюю сущность вещей подобной свойствам нашей души. И мировая основа, господствующая как общее для всех вещей, должна мыслится нами не иначе, как некая объемлющая личность - по образу нашей собственной личности. "Вожделение души к тому, чтобы рассматривать как действительное то высшее, что ей дозволено предчувствовать, не может иметь никакой иной формы своего бытия, как только удовлетворять личностное, или оставаться под вопросом. Душа настолько сильно убеждена в том, что живая, самодовлеющая и наслаждающаяся собой яйность ("я"-начало) есть непременная предпосылка и единственно возможная родина всего добра и всяческих благ, насколько преисполнена она тихого недоверия к внешне безжизненному бытию, что мы в первоначальных мифах религии постоянно встречаем попытки свести природную действительность к духовной, но никогда не находим потребности сведения духовной жизненности к слепой реальности как прочной ее основе". А свое собственное ощущение вещей природы Лотце облекает в следующие слова: "Мне не ведомы мертвые массы, о которых вы говорите; для меня всякая жизнь и подвижность, а также покой и смерть есть только смутная неверная видимость непрестанного внутреннего ткания". И если природные процессы, какими они являются наблюдению, представляются такой неверной видимостью, то, следовательно, их глубинное существо следует искать не в этой открытой наблюдению закономерности, но в "непрестанном ткании" одушевляющей их всеобщей личности, в ее целях и замыслах. Лотце представляет себе, что во всяком действии природы выражается взлелеянный некоей личностью моральный умысел, к которому стремится мир. Законы природы есть всеправящее выражение всегосподствующей мировой этической закономерности. С этим этическим изображением мира вполне созвучно то, что Лотце говорит о жизни человеческой души после смерти: "Ни одна другая мысль вне общей идеалистической убежденности не находится в нашем столь полном распоряжении: все сотворенное будет существовать и дальше, чьё пребывание (в вечности) неотъемлемо от смысла мира; преходящим же является все то, чья действительность лишь в преходящей фазе потока мирового бытия занимает правомерное место. То, что это положение не дает в руки человека никаких шансов дальнейшего применения, - не требует разъяснений; мы не знаем достоверно ни заслуги, которая могла бы гарантировать удовлетворение претензии на вечное существование, ни порока, который бы исключал это" ("Три книги метафизики", параграф 245). Там, где рассуждения Лотце затрагивают сферу великих философских загадок, его мысли приобретают характер недостоверности. Тотчас становится очевидно, что их автор не в состоянии образовать надежное представление об отношении человека к мировому бытию, черпая из обоих источников познания, - естествознания и душевного самонаблюдения. Внутренняя сила самонаблюдения не проникает к той мысли, которая могла бы дать человеческому "я" право почувствовать себя определенной сущностью в лоне мирового целого. В лекциях по "Философии религии" (с. 82 нем.) указывается: "Вера в бессмертие" не имеет никакого иного достоверного основания как только "религиозную потребность". Также и философски не может он развить ничего более определенного, чем то, что вытекает из простого метафизического суждения. А именно: поскольку мы рассматриваем каждое существо "лишь как творение Божие, то изначально не дано никакого права, опираясь на которое отдельная душа могла бы рассматривать себя как некую "субстанцию", чтобы требовать для себя индивидуального вечного пребывания. Скорее мы могли бы просто констатировать: каждое существо соблюдается Богом до тех пор, пока его бытие имеет значение и ценность для целокупности мирового плана…" В неопределенности подобных суждений выражается, насколько далеко заходят идеи Лотце в области великих философских загадок.
* * *
В маленькой работе "О жизни после смерти" Фехнер высказывается об отношении человека к миру: "Что видит анатом, заглядывающий в человеческий мозг? Путаницу белых волокон, смысл которых он не в силах разгадать. А что видит он в себе самом? Мир цветов, тонов, мыслей воспоминаний, фантазий, ощущений любви и ненависти. Так представляется тебе отношение того, что ты, стоя вне мира, усматриваешь в нем, и того, что мир видит в себе самом, и не требуй, чтобы оба, внешнее и внутреннее более совпадали в целом мире, чем в тебе, частице его. И лишь потому, что ты часть этого мира, тебе позволено видеть в тебе часть того, что мир видит в себе". Фехнер представляет себе, что мировой дух имеет то же отношение к мировой материи, что и человеческий дух к человеческому телу. Он рассуждает так; человек говорит о себе, когда говорит о своем теле, и он также говорит о себе, когда говорит о своем духе. Анатом, исследующий массу мозговых клеток, имеет перед собой орган, откуда некогда происходили мысли и фантазии. Когда был еще жив человек, чей мозг рассматривает теперь анатом, перед его душой вставал мир представлений, а не скопление мозговых клеток и их телесная деятельность. Что же изменилось, если вместо человека, взирающего на собственную душу, анатом наблюдает мозг, телесный орган этой души? Не является здесь одно и то же существо, один человек и в том и в другом случае? Существо-то здесь действительно одно и то же, рассуждает Фехнер, изменилась только точка зрения наблюдателя. Анатом видит теперь извне то, что ранее человек созерцал внутренне. - Это подобно тому, как если бы рассматривалась некая окружность - то снаружи, то изнутри. В первом случае он кажется выпуклым, во втором - полым. Но в обоих случаях - это одна и та же окружность. Так же обстоит дело и с человеком: когда он созерцает себя изнутри, он дух; когда же он становится объектом внешнего естественнонаучного исследования, он - тело, материя. В смысле фехнеровской манеры представления не дозволено размышлять о том, как действуют друг на друга тело и дух. Ибо они - не два различных существа, а одно и то же. Они только представляются различными, когда их наблюдают с различных позиций. В человеке усматривает Фехнер тело, которое одновременно есть дух. С этой точки зрения для Фехнера открывается возможность представлять себе всю природу духовной, одушевленной. В себе самом человек в состоянии рассматривать телесное изнутри, т. е. познавать внутреннюю сторону непосредственно как духовное. Отсюда недалеко до той мысли, что все телесное, если рассматривать его изнутри, является духовным. Растение мы можем видеть только извне. Но разве невозможно, что и оно, созерцаемое изнутри, явилось бы душой. Это представление выросло в фехнеровской фантазии в убеждение: всё телесное есть вместе с тем и духовное. Одушевлена малейшая материальная частичка. И если материальные частицы создают совместно более совершенные материальные тела, то этот процесс представляется так только извне; ему соответствует некий внутренний процесс, который оказался бы упорядочением отдельных душ в более совершенную общую душу, если бы это было возможно увидеть. Если бы кто-нибудь был в состоянии увидеть изнутри все телесные образования на нашей Земле вместе с живущими на ней растениями, обитающими на ней животными и людьми, то все в целом представилось бы ему как земная душа. И точно также обстояло бы дело со всею Солнечной системой и даже со всем миром. Универсум, рассматриваемый снаружи, есть телесный Космос, а рассматриваемый изнутри, - Всеобщий Дух, совершеннейшая личность, Бог.
Тот, кто желает достигнуть мировоззрения, должен выйти за пределы фактов, которые предлагают ему себя без его участия. О том, что достигается таким выходом за пределы мира непосредственного восприятия, имеются различные толкования. Кирххоф в 1874 г. высказался в том смысле, что даже благодаря строгой научности нельзя придти ни к чему иному, как только к полному и простому описанию фактических процессов. Фехнер исходил из несколько иной точки зрения. Он полагал, что "великое искусство исхода от посюстороннего к потустороннему состоит не в основаниях, которых мы не знаем, не в предпосылках, которые мы устанавливаем, а только в восхождении от фактов, которые мы знаем, к более значительным и высоким фактам потустороннего, приближаясь тем самым снизу к требуемой практикой и связанной с более высокими воззрениями вере и становясь в прочное и живое отношение с жизнью" ("Книжечка о жизни после смерти", с. 69 нем.). В смысле этого мнения Фехнер не только ищет взаимосвязей телесных феноменов, открывающихся наблюдению, с духовными явлениями наблюдения; но он присовокупляет к наблюдаемым душевным явлениям другие - земной дух, духи планет, мировой дух.
Покоящееся на достоверном основании естественнонаучное знание не помешало Фехнеру распространить мысли чувственного мира на те регионы, где перед ними встают мировые существа и мировые процессы, которые должны ускользать от чувственного наблюдения, если они существуют. Он чувствует себя призванным к подобному воспарению своим чутким рассмотрением чувственного мира, которое говорит его мышлению больше того, чем может сказать простое чувственное восприятие. Это "больше" он намерен использовать в мыслительном рассмотрении не-чувственных существ. Таким образом, он старается нарисовать картину мира, в которой рассчитывает найти ожившие мысли. Вслед за этим переходом границы чувственного Фехнер осмелился исследовать по самым строгим естественнонаучным методам даже в той области, которая граничит с душевным. Это ему принадлежит приоритет создания научных методов применительно к данной области. Его "Элементы психофизики" являются основополагающей работой в этом смысле (1860 г.). Главное утверждение психофизики гласит, что возрастание ощущения, обусловленного нарастающим впечатлением извне, в определенном смысле протекает медленнее, чем возрастание силы впечатления. Ощущение растет тем меньше, чем больше была заданная уже величина раздражения. Отталкиваясь от этой мысли, можно установить меру отношения между внешним раздражением (например, физической силой света) и ощущением (например, световым ощущением). Проложенный Фехнером путь ведет к созданию психофизики как совершенно новой науки об отношении раздражителя к ощущению, т. е., стало быть, телесного к душевному. Вильгельм Вундт, который в этой области продолжил работу в фехнеровском смысле, дает превосходную характеристику основателя "психофизики": "Пожалуй, ни в одном ином научном достижении не выступает столь редкостное сочетание дарований, которыми владеет Фехнер, столь блестящим образом, как в его психофизических работах. В таком труде, как "Элементы психофизики", требуется основательное знание принципов точной физико-математической методики, а также способность проникать в глубочайшие проблемы бытия, чем в этой совокупности обладал только он один. И кроме того он нуждался в той изначальности мышления, которая позволяет свободно по своему усмотрению распоряжаться обильным вспомогательным материалом и не испытывать ни малейших сомнений в прокладывании новых путей. Достойное удивление по своей гениальной простоте, но все-таки ограниченные наблюдения К. Х. Вебера и отдельные, часто случайные, чем планомерные экспериментальные находки других физиологов - вот скромный материал, из которого строится им новая наука". Важные выводы о взаимодействии тела и души вытекают из применения фехнеровского экспериментального метода в этой области. Вот как характеризует Вундт эту новую науку в своих "Лекциях о человеческой и животной душе" (1863): "В последующем изложении я намереваюсь показать, что эксперимент в психологии является основным средством, которое от фактов сознания ведет к тем процессам, кои подготавливают сознательную жизнь в темных подосновах души. Самонаблюдение показывает нам, подобно всякому наблюдению, только сложившееся явление. Лишь в эксперименте мы можем очистить явление от всех случайных обстоятельств, с которыми оно связано в природе. Благодаря эксперименту мы искусственно извлекаем явление из условий, которые держим в руках. Мы изменяем эти условия и посредством этого изменяем также, контролируемым образом, само явление. Таким образом, всегда и всюду единственно эксперимент ведет нас к законам природы, ибо лишь в эксперименте можно одновременно видеть причины и следствия". Несомненно, имеется только одна пограничная область психологии, где эксперимент плодотворен, а именно область, в которой сознательные процессы переходят уже к бессознательным, ведущим в материальное подосновам душевной жизни. Собственно душевные явления открыты только чисто духовному наблюдению. И все-таки суждение одного психофизика, Крепелина, соответствует истине в том, что "молодая наука… долго будет занимать автономное место рядом с другими отраслями естествознания и в особенности физиологии" (Работы по психологии, изданные Е. Крепелином, том 1 тетрадь1 стр 4)
* * *
Когда в 1868 г. Эдуард фон Гартман выступил со своей "Философией бессознательного", он имел в виду не то мировоззрение, которое считается с результатами современного естествознания, а скорее то, которое поднимает его на более высокую ступень, - очищая от противоречий и подвергая всесторонней разработке, - идеи идеалистической системы первой половины столетия, во многих пунктах представлявшиеся ему неудовлетворительными. Как в мыслях Гегеля, так и в идеях Шеллинга и Шопенгауэра находил он верные семена, которые оставалось только довести до зрелости. Если человек желает познать вещи и процессы мира, то он не может удовольствоваться наблюдением фактов. От фактов должен он придти к идеям. И идеи эти отнюдь не являются тем, что мышление произвольно присоединяет к фактам. Им должно соответствовать нечто в вещах и событиях. Это соответствующее составляет не сознательные идеи, ибо они могут возникнуть лишь при посредстве материальных процессов человеческого мозга. Без мозга невозможно сознание. Можно, следовательно, представить себе, что сознательным идеям человеческого духа соответствует бессознательное идеальное в действительности. Вслед за Гегелем и Гартман рассматривает идеи как действительное содержание вещей за чертой просто воспринимаемого, открытого чувственному наблюдению. - Но просто идейное содержание вещей никогда не могло бы произвести в них действительных событий. Идея одного шара не может столкнуться с идеей другого шара. Также идея стола не может произвести впечатления на человеческий глаз. Действительное свершение предполагает силу столь же действительную. Чтобы получить представление об этой последней Гартман опирается на Шопенгауэра. Человек в собственной душе находит силу, благодаря которой он сообщает статус действительности своим мыслям, своим решениям, - это его воля. Так как воля проявляется в человеческой душе, то для этого имеется предпосылка в виде человеческого организма. Сознательной воля становится благодаря организму. Если мы вознамерились мыслить наличие некоторой силы в вещах, то должны представлять ее себе подобной воле, - этой единственной силе, знаемой нами непосредственно. Только опять-таки надо отвлечься от сознания. Вне нас, стало быть, господствует в вещах бессознательная воля, которая дает идеям возможность осуществления. Идейное и волевое содержание мира в своем сочетании образуют бессознательную основу мира. - И хотя мир по своему идейному содержанию являет совершенно логическую структуру, но своим действительным бытием он все-таки обязан нелогичной, неразумной воле. Его (мира) содержание разумно; но то, что это содержание является действительностью, имеет основание в неразумии. Господство неразумного выражается в наличии боли и скорби, терзающих всякое существо. Боль преобладает в мире над удовольствием. Этот факт, который философски объясняется наличием нелогичного волевого элемента бытия, Эдуард фон Гартман старается подкрепить скрупулезными рассмотрениями отношения удовольствия и страдания в мире. Кто не предается иллюзии, а объективно рассматривает мировое зло, тот обнаружит, что страдание далеко превосходит удовольствие. Но отсюда следует, что небытие предпочтительнее бытия. Между тем небытие достигается лишь благодаря тому, что логически-разумная идея уничтожает волю, бытие. Отсюда Гартман видит мировой процесс как постепенное уничтожение неразумной воли разумным идейным миром. Поэтому высшею нравственной задачей человека является участие в преодолении воли. Всякий культурный прогресс, в конечном счете, стремится к этому преодолению. И человек является нравственным постольку, поскольку он участвует в культурном прогрессе, не требуя ничего для себя, но бескорыстно посвящая себя великому делу освобождения бытия. И он действительно возьмется за дело, если увидит, что неудовольствие больше удовольствия и что счастье поэтому невозможно. Только тот может эгоистически требовать счастья, кто считает его возможным. Пессимистическая убежденность в том, что боль и скорбь преобладают в мире, есть лучшее средство против эгоизма. Только отдаваясь мировому процессу может индивид найти спасение. Настоящий пессимист приходит к неэгоистической деятельности. - То, что человек совершает сознательно, есть только бессознательное, поднятое в сознание. Сознательному человеческому участию в культурном прогрессе соответствует общий бессознательный процесс, состоящий в прогрессирующем освобождении прасущества (Urwesen) мира от воли. По этой цели должно служить уже начало мира. Прасущество должно было создать мир, чтобы постепенно освободиться с помощью идеи от воли. "Реальное бытие есть воплощение Божества, мировой процесс есть история страданий воплощенного Бога и одновременно путь освобождения Распятого во плоти; а нравственность есть сотрудничество в работе по сокращению этого пути страданий и спасения" (Гартман, "Феноменология нравственного сознания" 1879, стр. 871). Гартман всесторонне обосновал свое мировоззрение в ряде обширных трудов, монографий и статей. Эти работы содержат в себе духовные сокровища выдающиеся ценности, поскольку Гартман при обсуждении отдельных проблем науки и жизни не поддается тирании своей основной мысли, а отдается непредвзятому рассмотрению вещей. Особенно это относится к его "Феноменологии нравственного сознания", в которой он находит логическую структуру в изложении различных видов человеческого нравственного учения. Тем самым он предложил своеобразную "естественную историю" различных моральных воззрений, начиная от эгоистической погони за счастьем через многие промежуточные ступени вплоть до самозабвенной преданности всеобщему мировому процессу, в ходе которого божественное прасущество освобождается от греховности бытия.
Поскольку Гартман принимает в свою картину мира мысль о целеполагании, вполне понятно, что опирающийся на Дарвинизм естественнонаучный образ мыслей представляется ему односторонним идейным течением. Подобно тому, как идея во всем мировом целом работает в цели небытия, так и в отдельных случаях идеальное содержание ориентировано к цели. В развитии организма Гартман находит осуществляющийся замысел; и борьба за существование с ее естественным отбором суть только подмастерья целенаправленно господствующих идей. ("Философия бессознательного" 10 изд. Том 3, стр. 403)
* * *
С различных сторон мыслительная жизнь XIX столетия сливается в мировоззрение недостоверности и безутешности. Рихард Вале со всей определенностью выносит мышлению приговор, что оно якобы бессильно содействовать разрешению высших "экзальтированных вопросов". Э. фон Гартман усматривает во всей культурной деятельности только обходной маневр, чтобы, наконец, достигнуть полного как последней цели освобождение от бытия. Против подобных идейных ориентаций можно использовать прекрасные слова одного немецкого исследователя языка Вильгельма Вакернагеля из его книги "О преподавании родного языка" (1843). Он полагает, что сомнение не может лечь в основу мировоззрения, - оно скорее представляет собой "оскорбление" личности, намеревающейся что-нибудь познать, и равным образом "оскорблением" вещей, подлежащих познанию. "Познание начинается с доверия".
Новая эпоха питала такое доверие к идеям, покоящимся на методах естественнонаучного исследования, но - не к познанию, добывающему силу истины из самосознающего "я". Импульсы, лежащие в глубинах развития духовной жизни требуют этой силы истины. Исследующая человеческая душа инстинктивно чувствует, что она может удовлетвориться лишь только этой силой. И философское исследование борется за обладание этой силой. Но оно не может найти ее в том, что может извлечь из себя в смысле мировоззрения. Достижения мыслительной жизни остаются позади того, что требует душа. Естественнонаучные представления обретают свою достоверность благодаря наблюдению внешнего мира. Внутри души отсутствует сила, обладающая той же достоверностью. Истины о духовном мире, о судьбе души и ее взаимосвязи с миром должны постигаться так же, как естественнонаучные представления. Мыслитель, многое почерпнувший из философской культуры прошлого и хорошо освоивший метод естественнонаучного исследования, Франц Брентано требовал, чтобы философия пользовалась методологией естествознания. Он полагал, что, например, наука о душе, (психология) вследствие этого подражания естественнонаучным методам ни в коей мере не утратит способности ответить на важнейшие вопросы душевной жизни. "Относительно надежд Платона и Аристотеля обеспечить гарантию на продолжения жизни для нашей лучшей части после разложения тела, ни законы ассоциации представлений и мнений, ни законы зарождения и развития, удовольствия, любви и всего остального истинной компенсацией стать не могут… И если действительно" новый естественнонаучный образ мыслей "исключает рассмотрение вопроса о бессмертии, то для психологии этот вопрос имеет чрезвычайно важное значение". Так говорит Брентано в своей "Психологии с эмпирической точки зрения" (1874) стр.20. Весьма значительным свидетельством ничтожности движущих возможностей экспериментальной психологии (исследований о душе), которые хотят всего лишь подражать естественной науке является то, что такой серьезный искатель истины, как Франц Брентано, после первого тома своей "Психологии", в которой речь идет "о чем угодно кроме действительного разрешения" важнейших вопросов душевной жизни, до сих пор не продвинулся дальше, чтобы действительно приступить к самым высшим вопросам . Мыслителям недостает энергии, которая соответствовала бы требованиям новой жизни. Греческая мысль так овладевала образом природы и образом душевной жизни, что они сливались в общую картину. В последующее время в глубинах душевной жизни мыслительная жизнь развертывалась самостоятельно и в отрыве от природы; новое естествознание составляло картину природы. Тем самым возникала необходимость найти, - в самосознающем "я", - такой образ душевной жизни, который был бы достаточно сильным, чтобы выстоять в общей картине вместе с образом природы. Для этого необходимо в самой душе найти точку опоры для достоверности, которая была бы столь же надежна, как и результаты естественнонаучного исследования. Спиноза хотел обрести эту достоверность благодаря тому, что он комбинировал свою картину мира на математический манер; Кант придавал цену познанию мира, поставленного на себе, миру в себе, и пытался найти идею, которая, благодаря присущему ей моральной силе гарантирует если и не знание, то все же твердую веру. У исследующих философов заметно стремление к погружению душевной жизни в общую взаимосвязь мирового бытия. И все-таки у них недостает энергии, чтобы представления о душевной жизни формировать таким образом, чтобы открывалась перспектива разрешения загадок души. Между тем они испытывали неуверенность по отношению ко всему тому, что человек может пережить в своей душе. Естественная наука в смысле Геккеля прослеживает только воспринимаемые природные процессы, более высокую ступень которых она усматривает в душевной жизни. Другие мыслители находили, что во всем том, что таким образом воспринимает душа, разыгрываются последствия неведомых и непознаваемых внечеловеческих процессов. Для этих мыслителей мир становится "иллюзией", обусловленной, правда, природной необходимостью самой человеческой организации. "Пока не изобретен трюк смотреть из-за угла, то есть представлять без представления, пусть все останется в смысле гордого кантовского самоограничения: в существующем можно познать только его "чтобы" (Da?), но не "что" (Was)". Так говорил философ второй половины XIX в. Роберт Циммерман. И с таким мировоззрением человеческая душа, ничего не ведающая о своей сущности, о своем "что", отправляется в дальние странствия по океану представлений, не будучи в силах осознать свою способность найти в этих водах представлений что-нибудь такое, что позволит ей проникнуть в сущность бытия. Гегель полагал, что в самом мышлении имеется внутренняя жизненная сила, которая вводит человеческое "я" в бытие. В последующую эпоху "чистое мышление" превратилось в некий эфемерный образ-представление, не заключающее в себе ничего от сущности настоящего бытия. - Где высказывается мнение о заложенном в мышлении рычаге поисков истины, там явственно слышится неуверенность во всех размышлениях. Так, Гедеон Шицкер говорит: "То, что мышление правильно в себе самом, - мы не можем достоверно констатировать ни эмпирическим, ни логическим способом…" ("Мировоззрение Лесинга"1883,стр.5)
Филипп Майнлендер (1841-1876) превосходно выразил в своей "Философии освобождения" (1876) недоверие по отношению к бытию. Майнлендер не принимает картину мира, к которой стремится современная естественная наука. Но он тщетно ищет для себя возможность укоренить в духовном мире самосознающее "я". Он не может их этого самосознающего "я" получить то, к чему были предпосылки у Гете, - почувствовать в душе воскресающую внутреннюю живую сущность, которая ощущает себя духовно живою в (объективном) духовно-живом позади обыкновенной внешней природы. Так что ему (Майнлендеру) мир представляется без духа. Но поскольку он не может позволить себе мыслить мир происшедшим не из духа, то он воспринимает его как остаток былой духовной жизни. Захватывают читателя следующие мысли Майнлендера: "Теперь мы имеем право дать этому существу то известное имя, которое издревле обозначало то, чего не могут постичь ни самая властная сила представления, ни полет самой смелой фантазии, ни абстрактное и глубокое мышление, ни сосредоточенный, благочестивый нрав, ни восхищенный, парящий над Землей дух: Бога. Но это простое единство было: его нет более. Полностью изменившись, оно целиком распалось, претворившись в мир множества. Если в бытии открывается лишь скудный остаток некогда величавого совершенства, то полное его уничтожение должно представлять цель бытия. И человек должен усматривать свое предназначение в содействии этому уничтожению. Заметим в скобках, что Майнлендер впоследствии покончил с собой. - Бог создал мир, как полагал Майнлендер, чтобы избавиться от муки собственного бытия. "Мир есть средство для цели небытия, точнее - мир единственно возможное средство для этой цели. Бог пришел к выводу, что лишь через становление реального мира множественности он может из сверхбытия ступить в небытие" ("Философия избавления").
Поэт Роберт Гаммерлинг (1830-1889) с необыкновенной силой изобразил образ мыслей, рождающийся из недоверия к миру, в своем опубликованном посмертно мировоззренческом труде "Атомистика воли". Он отклоняет логические исследования относительно ценности или никчемности бытия и опирается исключительно на изначальное переживание. "Дело вовсе не в том, правы или не правы люди, что они все за ничтожным исключением хотят жить, жить любой ценой, независимо от того, счастливы они или несчастны. Главное, что они этого хотят и это бесспорно. И, однако, доктринерские пессимисты не считаются с этим фактом. В многоученых своих размышлениях они постоянно взвешивают только удовольствие и неудовольствие, доставляемые обстоятельствами жизни. Но поскольку удовольствие и неприятность являются предметом эмоции, то, следовательно, не рассудок, а чувство подводит окончательный баланс между удовольствием и неприятностью. И это итог по отношению к человечеству в целом и вообще ко всему живому получается в пользу удовольствия бытия. То, что все живое жаждет жить, жить при всех обстоятельствах, жить любой ценой, - это великий факт, и по отношению к этому факту всякое доктринерство наивно". Таким образом, пред душой Гаммерлинга встает мысль: в глубинах души есть нечто такое, что причастно некоторому бытию и что выражает существо души правдивее, нежели суждения о ценности жизни, сформировавшиеся под игом новой естественнонаучной манеры представления. Можно сказать, что Гаммерлинг предчувствует в душевных глубинах духовный центр тяжести, упрочивающий самосознающее " я" в мировой жизни. Поэтому он мог видеть в этом "я" нечто такое, что является более достоверным ручательством его бытия, чем мыслительные построения новейших философов. Он усматривает главное заблуждение новых мировоззрений в том, что "в новейшей философии множество всякого вздора вокруг человеческого "я"", и он объясняет это "страхом перед душой, душевной жизнью или даже душевной вещью". Со всею ясностью Гаммерлинг указывает на то, что представляется ему главным: "В мыслях о человеческом "я" разыгрываются эмоциональные моменты… Чего дух не пережил, того он не может и мыслить". По мнения Гаммерлинга всякое высокое мировоззрение зависит от способности чувствовать и переживать само мышление. Проникновение в те душевные глубины, в которых обретаются живые представления, ведущие к познанию душевного существа через посредство внутренней несущей силы самосознания "я", в высшей степени осложняется, по Гаммерлингу, теми понятиями, которые происходят из новейшей мировоззренческой эволюции и которые превращают картину мира в море различных представлений. И всё же он при своём рассмотрении мира приводит в качестве введения следующие слова: "Определенные раздражения производят запахи в нашем органе обоняния. Роза, следовательно, не пахнет, если её никто не нюхает. - Некоторые воздушные колебания создают в нашем ухе звучание. Звук, стало быть, не существует помимо уха. Орудийный выстрел не прозвучал бы, если бы его никто не слышал". Такие представления благодаря новейшей мировоззренческой эволюции претворились в столь крепкий элемент мышления, что Гаммерлинг должен был довольно строго отозваться на приведенное рассуждение: "Если это не вразумляет тебя, дорогой читатель, и если рассудок твой, как пугливая лошадь, встает на дыбы перед этим фактом, - не читай далее ни единой строчки; не раскрывай более ни одной философской книжки; ибо нет, стало быть, у тебя способности беспристрастно взирать на факты и крепко удерживать их в мыслях". - В своем последнем поэтическом произведении, "Гомункулусе", Гаммерлинг подверг критике современное умонастроение. С необыкновенной ясностью и радикальностью показывает он в галерее художественных образов, куда движется становящееся бездушным и уверовавшее в непреоборимую силу внешних естественных законов человечество. Как автор "Гомункулуса" он не останавливается ни перед чем, что связано с этим превратным умонастроением, но как мыслитель он полностью капитулирует перед той манерой представления, которая изображена здесь в главе "Мир как иллюзия". Он не побоялся сказать следующие слова: "Протяженный, пространственный телесный мир как таковой существует лишь в той мере, в какой мы его воспринимаем. - Кто это утверждает, тот вполне понимает, что это не более чем иллюзия, будто наряду с представлением, называемым нами "лошадью" существует другая, единственно реальная лошадь, по отношению к которой наше представление есть лишь отображение. Вне меня, повторяю, существует только сумма условий, которые делают возможным, что я образую наглядное представление, называемое лошадью". Гаммерлинг чувствует себя по отношению к душевной жизни так, как если бы в море представлений не было ничего от собственного существа мира. Но у него имеется некоторое ощущение того, что происходит в глубинах нового душевного развития. Он чувствует, что познание человека новой эпохи с силой его собственной истины должно светить живым светом в самосознающем "я"; как оно в воспринимаемых мыслях рисовалось античному греку. Он постоянно прикасается к тому месту, где самосознающее "я" внутренне чувствует себя наделенным силой своего подлинного бытия и одновременно чувствует себя стоящим в духовной жизни мира. Поскольку ему не открывается ничего иного, когда он так ощупывает свои переживания, он с готовностью хватается за распускающееся в душе чувство бытия, которое представляется ему более живым и существенным, чем простое представление о "я", мысль о "я". "Из сознания или чувства собственного бытия мы получаем некоторое понятие бытия, которое выходит за пределы просто мыслимого. Мы получаем понятие бытия, которое не просто думается, но думает". Отправляясь от этого захватывающего его чувства существования "я", Гаммерлинг намеревается построить картину мира. То, что переживает "я" в своем чувстве экзистенции это, по выражению Гаммерлинга, "чувство атома в нас". Чувствуя себя, "я" знает о себе; и по отношению к миру оно сознает себя как "атом". Он должен представлять себе другое существо таким образом, как оно само находит себя в себе, - как переживающий, чувствующий себя атом, что для Гаммерлинга равнозначно с волевыми атомами, волящими монадами. В "Атомистике воли" Гаммерлинга мир предстает как множество волевых монад; человеческая душа - только одна из этих волевых монад. Мыслитель подобной картины мира видит, правда, мир вокруг себя как дух, но все то, что он может различить в этом духе, является откровением воли. Ничего больше сказать об этом нельзя. Из этой картины мира никак не проясняется следующий вопрос: как поставлена человеческая душа в становление мира? Рассматривается ли эта душа как то, чем она является человеку прежде всякого философского мышления, или же человек после этого мышления характеризует её как волящую монаду, - в случаях обоих представлений о душе, он оказывается перед, в равной мере загадочным вопросом. Так что мыслящий вместе с Брентано мог бы сказать: "Относительно надежд Платона и Аристотеля обеспечить гарантию на продолжение жизни лучшей части нашего существа после распадения тела, знание о том, что душа является волящей монадой среди других волящих монад, всякое другое знание, истиной компенсацией стать не может".
Во многих течениях новейшей мировоззренческой жизни заметно инстинктивное (изживающееся в подсознании мыслителей) стремление найти в самосознающем "я" силу, скрытую от взоров Спинозы, Канта, Лейбница и других, ту силу, посредством которой это "я" - ядро человеческой души - может быть представлено так, что выясняется место человека в становлении и развитии мира. Вместе с тем становится очевидным, что средство, применяемое указанным мировоззренческим направлением для обнаружения подобной силы, оказывается слишком недостаточным для исполнения "надежд Платона и Аристотеля" (в смысле Брентано) на уровне современных запросов душевной жизни. Все усилия направляются здесь на формирование мнений о том, как относится восприятие к вещам вне человеческой души, как развиваются и сочетаются представления, как возникает воспоминание, как воля и чувство относятся к представлению; но присущий человеку образ мыслей тотчас захлопывает перед ним двери, как только заходит речь о "надеждах Платона и Аристотеля". Предполагается, что все, что можно помыслить об этих "надеждах", претит требованиям скрупулезной научности, устанавливаемым естественнонаучным образом мыслей.
Философский образ мыслей, не желающий со своими идеями подняться выше, чем это позволяет естественнонаучная почва, был продемонстрирован Вильгельмом Вундтом (1832-1920). Для Вундта философия является "всеобщей наукой, собирающей в единую непротиворечивую систему познания отдельных научных дисциплин" (Вундт, "Система философии" стр. 21). На путях поисков, осуществляемых подобной философией возможно только продолжение направлений мысли, создаваемых отдельными науками, их соединение и упорядочивание до степени обозримого целого. Вундт так и поступает, причем характер его идей всецело зависит от привычек представления, которые вырабатываются у мыслителя, являющегося, подобно Вундту, знатоком частной научной дисциплины и практическим работником в ее области. Взор Вундта направлен на картину мира, которая создается человеческой душою из чувственного опыта, и на представления, переживаемые душой под влиянием этой картины мира. Естественнонаучный образ мыслей рассматривает чувственные ощущения как следствия процессов, протекающих вне человека. Для Вундта этот образ мыслей является чем-то самоочевидным. Поэтому он рассматривает как внешнюю ту действительность, которая открывается понятийно на основе чувственных восприятий. Эта внешняя действительность, следовательно, не переживается; она предпосылается душе так, как она предпослана: вне человека протекает некий процесс, который воздействует на глаз и в глазе вследствие воздействия этого процесса вызывается ощущение света. В противоположность этому, душевные процессы переживаются непосредственно. В этих процессах познавать нечего, - можно лишь наблюдать, как образуются и сочетаются представления и как они соединяются с эмоциями и волевыми импульсами. В ходе этого наблюдения имеют дело только с теми душевными деятельностями, которые предлагают себя в потоке внутреннего переживания; говорить о какой-то открывающейся в этой жизни душе, вне этого текущего потока душевной жизни, не оправдано. Вполне оправдано полагать материю в основание явлений природы, поскольку судить о процессах материального бытия надлежит исходя из чувственных восприятий, а вот о душе подобным образом нельзя мыслить на основе душевных процессов. "Вспомогательное понятие материи… связано с посредующим или понятийным характером всякого естествознания. Безусловно, нельзя сказать наперед, как непосредственный и наглядный внутренний опыт в то же время нуждается в таком вспомогательном понятии…" ("Система философии", нем. с. 369). Таким образом, вопрос о существе души является для Вундта проблемой, к решению которой не ведут ни наблюдения внутренних переживаний, ни то, что можно почерпнуть из этих переживаний. Вундт не воспринимает никакой души; одна только душевная деятельность открыта его взору. И эта душевная деятельность представляется так, что всюду, где только проявляется душевное, там параллельно протекает телесный процесс. Оба, душевная деятельность и душевный процесс, образуют единство. Они, в сущности представляют собой одно и то же; только наблюдающий их человек может производить различение в своем наглядном представлении. Вундт убежден, что научный опыт может признать только такие духовные процессы, которые связаны с процессами телесными. Для Вундта самосознающее "я" изливается в душевный организм духовных процессов, которые имеют для него то же значение, что и телесные процессы - с той лишь разницей, что, рассматриваемые внутренне, они предстают в духовно-душевном облике. Если же "я" пытается найти в себе то, что оно может расценивать как нечто характерное для себя, то оно приходит к открытию своей волевой деятельности. Только в своем волении оно отличает себя как самостоятельную сущность от остального мира. Благодаря этому оно ощущает в себе импульсы рассматривать волю как выражение основного характера своего бытия. Оно признается себе, что по отношению к своей собственной сущности источник мира должен находиться в волевой деятельности. Собственное бытие вещей, которые человек наблюдает во внешнем мире, остается скрытым позади этого наблюдения; в своем внутреннем бытии он познает волю как нечто самое существенное; он может заключить, что то, что исходит из внешнего мира и сталкивается с его собственной волей, имеет с нею одну природу. Когда начинают взаимодействовать волевые деятельности мира, они производят друг в друге представления, порождают внутреннюю жизнь волевых элементов. - Из всего этого видно, как Вундт истолковывал главный импульс самосознающего "я". Он восходит к постижению "я", действующего как воля в собственной человеческой сущности, и оглядываясь кругом в этом волевом существе "я", чувствует за собой право приписывать всему миру то же самое существо, которое душа переживает в себе. - Увы, также и из этого мира воли ничто не обещает исполнения "надежд Платона и Аристотеля".
Гаммерлинг подходит к загадкам мира и души с умонастроением человека XIX в., которое возникало в его душе под определяющим влиянием основных духовных импульсов эпохи. Он ощущает эти духовные импульсы из чисто человеческого начала, для которого ставить вопросы о тайнах бытия столь же естественно, сколь естественно физическому естеству человека ощущать голод и жажду. Вот что он говорит о своем отношении к философии: "Всего прежде чувствовал я себя человеком, человеком в полнейшей мере, и тогда важнее всего других духовных интересов явились для меня великие проблемы бытия и жизни". "Я вовсе не внезапно обратился к философии, следуя личной прихоти или попробовав свои силы сначала в других областях. Я занимался великими проблемами человеческого познания с ранней юности, уступая естественному непреклонному стремлению, которое вообще подталкивает человека к исследованию истины и разрешению загадок бытия. Вместе с тем я никогда не усматривал в философии какой-то специальной частной науки, изучение которой можно произвольно начинать и прекращать наподобие статистики или лесоводства, но рассматривал ее как исследование того, что для каждого является ближайшим, важнейшим и интереснейшим". На пути, которым Гаммерлинг шёл к исследованию истины, над ним довлели те направляющие силы мышления, которые в случае Канта отняли у знания власть, необходимую для проникновения к источнику бытия, и которые затем в течение XIX столетия заставили рассматривать мир как иллюзию представления. Гаммерлинг отнюдь не безусловно отдавался этим направляющим силам, но они все же сильно отягчали его рассмотрение. Он старался найти центр тяжести в самосознающем "я", в котором переживается бытие, и полагал, что этот центр тяжести находится в воле. Мышление не действовало на Гаммерлинга так, как оно действовало на Гегеля. Оно представлялось ему как "чистое мышление", которое не может в себе постигнуть бытие, чтобы, укрепившись в себе, выйти на всех парусах в открытое море мирового бытия. Так Гаммерлинг предался воле, в которой он ошибочно полагал почувствовать силу бытия; и укрепившись с помощью схваченной в "я" воли, Гаммерлинг намеревался своими силами погрузиться в мир волевых монад.
Гаммерлинг исходит из того наблюдения, что мировые загадки совершенно непосредственно оживают в человеке как некоторое чувство душевного голода; Вундт дает себя увлечь к постановке подобных проблем всему тому, что новая эпоха взрастила на широком поле отдельных научных дисциплин. В его манере постановки вопросов на материале отдельных наук живет собственная сила этих наук; в том, что он предпринимает ради ответа на эти вопросы, выявляется, как и у Гаммерлинга, направляющая сила нового мышления, которая лишила это мышление власти для переживания себя в самом источнике бытия. Так что в сущности Вундтова картина мира является "просто идеальным обозрением" образа природы соответствующего новому образу мыслей. Также и у Вундта воля в человеческой душе является элементом, назначение которого исчерпывается компенсацией бессилия мышления. Воля заявляет о себе в рассмотрении мира таким образом, что старается заполнить собою все бытие.
Гаммерлинг и Вундт являются теми личностями в новой мировоззренческой эволюции, в которых действовали силы, удерживающие эту эволюцию в русле некоторых течений, чтобы через мышление совладать с мировыми загадками, которые переживание и наука ставили перед человеческой душой. Эти силы действовали в обоих личностях таким образом, что в своем развертывании они не находили в самих себе ничего такого, благодаря чему самосознающее "я" могло бы почувствовать себя в источнике своего бытия. Скорее эти силы теснились к некоторой точке, где они могли найти еще нечто такое, что избавляло их от необходимости заниматься великими мировыми загадками. Эти силы замыкались на волю; и все же из достигнутого мира воли не прозвучало ни единого слова относительно обеспечения гарантии на "продолжения жизни лучшей части нашего существа после распада тела" или относительно тому подобных загадок мира и души. Подобные мировоззрения родились из естественного неуклонного стремления, "которое вообще побуждает человека к исследованию истины и разрешению загадок бытия"; но как только они прибегли к средству для этого разрешения, которое, по их мнению, было единственным в распоряжении эпохи и казалось единственно правомерным, тотчас они оказались в русле такого рассмотрения, в котором уже не было никаких элементов переживания, необходимого для решения загадок бытия.
Мы видим: перед человеком в определенную эпоху были поставлены мировые вопросы совершенно определенным образом; он инстинктивно ощущает то, что ему надлежит. Ему следует найти средство для ответа на вопросы. Он может, работая с этим средством, оставаться позади того, что в глубинах развития подступает к нему как требование. Философия, движущаяся в этой деятельности, представляет собой борьбу за достижение этой еще не вполне понятой в сознании цели. Целью новой мировоззренческой эволюции является переживание в самосознающем "я" того, что идеям картины мира придает бытие и сущность. Характеризуемые философские течения обнаруживают бессилие привести эту картину мира к подобной жизни, и подобному бытию. Воспринимаемая мысль не дает более "я", то есть - самосознающей душе - гарантии бытия. Это "я", чтобы уверовать в такое гарантированное бытие, как в него веровали античные греки, слишком далеко удаляется от природной почвы; оно еще не оживило в себе того, что эта природная почва некогда пожаловала ему, не требуя его собственного душевного творческого участия. 1
СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Австрийский мыслитель Варфоломей Карнери (1821-1909) пытался извлечь из дарвинизма широкие перспективы мировоззрения и формирования жизни. Спустя 11 лет после появления дарвиновской книги "Происхождение видов" он выступил с работой "Нравственность и дарвинизм" (Вена, 1871), в которой он со всей основательностью делает новый идейный мир основой этического мировоззрения. С той поры он неуклонно возводит дарвинистскую этику. (Им изданы следующие труды: "Основания этики", 1881; "Человек как самоцель", 1878; "Современный человек. Попытка руководства в жизни", 1891). Карнери пытался найти в образе природы такие элементы, которые позволяют представить себе самосознающее "я" в этом образе природы. Он мыслил себе этот образ столь грандиозным и протяженным, что он вмещал в себя и человеческую душу. Таким образом, он намеревается воссоединить "я" с материнской почвой природы, от которой оно оторвалось. В своей концепции мира он становится в оппозицию к тем, кто рассматривает мир как иллюзию представления и потому отказываются от всякой взаимосвязи знания с мировым бытием. Карнери отклоняет всякое моральное воззрение, которое предлагает человеку нравственные заповеди, отличающиеся от тех, которые вытекают из собственной человеческой природы. Необходимо придерживаться мысли, что человека надо понимать не как особое существо наряду со всеми другими существами природы, а существом, которое постепенно развилось из низших сущностей по чисто природным законам. Карнери убежден, что вся жизнь в целом представляет собой как бы один сплошной химический процесс. "Пищеварение у человека то же, что и питание растения". Но одновременно он подчеркивает, что химический процесс должен подняться к более высокой форме развития, если он хочет претворяться в растение или животное. "Жизнь есть уникального рода химический процесс, химический процесс, ставший индивидуальным. Химический процесс может, правда, достигнуть такой точки, где он … может обойтись без некоторых условий, в которых он до сих пор нуждался". Карнери прослеживает, как низшие природные процессы восходят к высшим и как вещество посредством усовершенствования способов своего действия приходит к высшим формам своего бытия. "Мы понимаем вещество как материю, поскольку возникающие из его делимости и движения феномены действуют на наши чувства телесно, т. е. как масса. Если деление или дифференцирование простирается столь далеко, что порождаемые им явления воспринимаются уже не чувствами, а только мышлением, то имеет место духовное воздействие вещества". Также и нравственное вовсе не является особенной формой бытия; оно представляет собой природный процесс на более высокой ступени. Поэтому неправильно ставить вопрос: что должен делать человек в смысле какой-нибудь особенно важной для него моральной заповеди". Вопрос должен звучать так: что является нравственностью, если низшие процессы восходят к высшим духовным? "В то время как моральная философия устанавливает определенные нравственные законы и приказывает придерживаться их, чтобы человек был тем, чем он должен быть, этика, рассматривающая человека, как он есть, ограничивается показом того, что из него ещё может стать: там обязанности, уклонение от которых угрожает наказанием, здесь идеал и отсутствие вечного принуждения, ибо приближение к идеалу происходит только на пути познания и свободы". Подобно тому, как химический процесс на более высокой ступени индивидуализируется в живое существо, так на еще более высокой ступени жизнь достигает самосознания. Существо, сознающие самое себя, не просто смотрит во внешнюю природу, оно вглядывается в самое себя. "Пробудившееся самосознание, понятое дуалистически, означало разрыв с природой, и человек почувствовал себя отделенным от нее. Трещина была видна только ему, но для него она означала полнейший разрыв. Этот разрыв возник не столь внезапно, как учит нас генезис, также как и дни творения не следует понимать буквально; но только с достижением самосознания этот разрыв стал фактом, и с чувства безграничного одиночества, завладевшего человеком, начинается затем его этическое развитие". Таким образом, природа доводит жизнь до известной ступени развития. В этом пункте возникает самосознание, возникает человек. "Его дальнейшее развитие является его собственным делом, и то, что он усвоил себе на пути прогресса - это власть и прояснение своих желаний". Обо всех других существах заботится природа; человека же она наделяет вожделениями, об удовлетворении которых он должен позаботиться сам. В нем действует импульс формировать свое бытие в соответствии со своими желаниями. Этот импульс - стремление к блаженству, стремление к счастливому благу. "Животному этот инстинкт чужд: оно имеет только инстинкт самосохранения; чтобы в нем мог возникнуть инстинкт к счастливому благу, оно должно было бы возвыситься до человеческого самосознания". Стремление к счастью лежит в основе всякого деяния. "Мученик, который отдает свою жизнь то ли научные убеждения, то ли за свою веру в Бога, имеет своей целью опять-таки счастье; один находит его в своей верности убеждениям, другой - в вере в лучший мир. Блаженство, счастливое благо всегда является последнею целью, и сколь бы ни различались образы, которые рисовали себе о нем индивидуумы с варварских времен до наших дней, оно для всякого ощущающего существа является началом и концом его мышления и чувствования". Поскольку природа дает человеку только потребность в счастье, образ счастья должен возникать в нем самом. Человек создает себе образы своего счастья. Они возникают из его этической фантазии. В этой фантазии Карнери находит новое понятие, которое нашему мышлению предписывает идеалы нашего действия. "Добро" для Карнери "идентично понятию дальнейшего развития. И поскольку развитие является удовольствием, … блаженство, счастливое благо составляет не только цель, но также движущий элемент, устремляющийся навстречу цели".
Карнери хотел найти путь от закономерности природы к источникам нравственного. Он надеялся найти идеальную власть, которая как движущий элемент нравственного миропорядка действует также творчески от одного этического события к другому, как материальные силы развивают из одного физического образования другое, из одного факта - другой.
Образ мыслей Карнери находится целиком в русле идеи развития, которая не допускает, что позднейшее уже предначертано в раннем, но считает позднейшее действительным новообразованием. (см. том 1 стр.) Химический процесс отнюдь не содержит в себе уже развитой животной жизни, а блаженство образуется как совершенно новый элемент на основе инстинкта самосохранения животного. Затруднение, скрытое в этой мысли, послужило для одного проницательного мыслителя В. Рольфа поводом для глубоких размышлений в его книге "Биологические проблемы, понимаемые одновременно как попытка развития рациональной этики" (1884 г.). Рольф спрашивает себя: какое основание имеется для того, что одна форма жизни не останавливается на определенной ступени, а продолжает развиваться, совершенствоваться? Тот, кто допускает, что в раннем уже развивается позднейшее, не сочтет этот вопрос заслуживающим внимания. Ибо для него будет с самого начала очевидно, что свернутое должно когда-нибудь развернуться. Но Рольф не может удовлетвориться таким ответом. С другой стороны, его не удовлетворяет и "борьба за существование" среди живых существ. Если живое существо борется только за исполнение своих необходимых потребностей, то оно может только вытеснить более слабые формы; но останется при этом самим собою. Если не предположить в нем таинственного, мистического стремления к самосовершенствованию, то остается искать основание к этому совершенствованию во внешних природных отношениях. Рольф находит это основание в том, что каждое существо, если для этого имеется возможность, удовлетворяет свои потребности в более крупном размере, нежели этого требует природная необходимость. "Только введя понятие ненасытности, можно принять дарвинский принцип совершенствования в борьбе за существование. Ибо лишь в этом случае мы получаем объяснение того факта, что всякое создание, где и когда бы то ни было, получает значительно больше того, что требуется для сохранения его статус кво, что оно может с избытком возрастать, где только для этого есть возможность". По мнению Рольфа в царстве животных существ разыгрывается не борьба за удовлетворение необходимейших жизненных потребностей, но "борьба за избыток". "Таким образом, если для дарвинистов не может быть никакой борьбы там, где ничто не угрожает экзистенции живых существ, для меня именно там следует видеть предпосылки самой ожесточенной борьбы. Это, прежде всего, жизненная борьба, борьба за повышение уровня жизни, а вовсе не борьба за существование". Из этих естественнонаучных предпосылок Рольф извлекает важное следствие для этики. "Повышение уровня жизни, а не ее сохранение, борьба за преимущество, а не за существование, - вот в чем разрешение проблемы. Простого удовлетворения жизненных потребностей и пропитания здесь недостаточно, - необходимо еще действие таких факторов, как достояние, если не богатство, власть и влияние. Стремление к постоянному улучшению жизненного положения является характерным инстинктом животного и человека".
Мысли Рольфа вдохновили Фридриха Ницше (1844 - 1900) сформулировать собственные идеи развития, когда он прошел определенные стадии своей душевной жизни. В начале своего литературного поприща он был далек от мыслей об эволюции, как и вообще от естественной науки. Он находился первоначально под сильным впечатлением от мировоззрения Артура Шопенгауэра, у коего он заимствовал представление о боли, лежащей в основе всякого бытия. Ницше искал избавления от этой боли не в исполнении моральных задач, как Шопенгауэр и Э. фон Гартман, а скорее в претворении жизни в произведение искусства. Греки создали себе мир прекрасного, мир блеска, чтобы выдержать натиск переполненного болью бытия. И в музыкальной драме Рихарда Вагнера пытался Ницше найти мир, который на крыльях прекрасного возносит человека над болью. То был в известном смысле мир иллюзии, который Ницше искал совершенно сознательно, чтобы воспарить над ничтожеством мира. Он был убежден, что в основе античной греческой культуры лежал человеческий инстинкт перенесения себя в состояние опьянения ради забвения действительного мира. "Поющим и танцующим проявляет себя человек как член высокой общности. Он научился хождению и речи и теперь находится на пути танцующего полета в воздухе". Так Ницше толкует и объясняет древний культ Диониса, в котором лежат корни всех искусств. Сократ совладал с этим дионисийским инстинктом благодаря тому, что сделал рассудок судьею импульсов. Утверждение "добродетели можно научить" означает замену объемлющей импульсивной культуры, культурой расслабленной, обузданной мышлением. Такие идеи зародились в Ницше под влиянием Шопенгауэра, который ставил неугомонную, разнузданную волю над упорядочивающим представлением, а также благодаря Вагнеру, который как человек и художник уважал Шопенгауэра. Но Ницше был вместе с тем созерцательной натурой по существу. Поэтому после того, как он усвоил себе представление о спасении мира благодаря сиянию прекрасного, он вскоре ощутил это воззрение как нечто чуждое, посторонний элемент в своем собственном существе, результат личного влияния его друга Р. Вагнера. Он пытался высвободиться от этого идейного направления и предаться более подобающему ему восприятию действительности. Благодаря основному характеру своей личности Ницше имел сильную наклонность импульсы новой мировоззренческой эволюции переживать как непосредственную индивидуальную судьбу. Другие формировали образы мировоззрений; и в эти формы изливалось их философствование. Ницше противостоит мировоззрениям второй половины XIX века. И его судьбой стало то, что он лично пережил все радости и муки, которые порождают эти мировоззрения, когда они изливаются над всем бытием человеческой души. Не теоретически, нет, с захватом всей его индивидуальности формировались в Ницше мировоззрения, пронизывая всю его личную жизнь и заставляя постоянно решать загадки жизни. Как надобно жить, если признать мир таким, как его представляют себе Шопенгауэр и Р. Вагнер? - Это было для него загадкой, но не такой загадкой, с которой можно справиться с помощью мышления и знания; он переживал эту загадку всеми фибрами своего существа. Другие люди философию мыслили; он переживал ее, жил ею. Новая мировоззренческая жизнь сама становится в Ницше личностью. Мировоззрения других мыслителей раскрываются наблюдателю таким образом, что он видит: это односторонне, то неверно и т. д. У Ницше наблюдателю открывается жизнь мировоззрения в человеческом существе, и он может видеть, как это человеческое существо выздоравливает благодаря одним идеям и заболевает от других идей. В этом и состоит причина того, почему Ницше в своем изложении мировоззрений всегда выступает по преимуществу поэтом. И тот, кто не удовлетворяется этим изложением как философией, тот все же удивляется его поэтической силе. Насколько иной тон вносит Ницше в новое мировоззренческое развитие, чем Гаммерлинг, Вундт и даже сам Шопенгауэр! Эти мужи стремились посредством рассмотрения найти основание бытия и пришли к откровению воли в глубинах человеческой души. В Ницше эта воля живет; и он воспринимает в себя философские идеи, раскаляет их своей волевой натурой и затем присоединяет нечто новое: жизнь, в которой пульсируют несомые волей идеи, просветленная идеями воля. Так происходит с Ницше в первом периоде его творчества в его "Рождении трагедии"(1870) и четырех несвоевременных рассмотрениях ("Давид Штраус как верующий и филистер"; " О пользе и вреде истории"; " Шопенгауэр как воспитатель"; "Рихард Вагнер в Байрете"). Во втором периоде жизни Ницше выпало на долю пережить, что может дать человеческой душе мировоззрение, если оно зиждется единственно на естественнонаучных привычках мышления. Этот второй период воплотился в следующих произведениях: "Человеческое, слишком человеческое" (1878), "Утренняя заря", "Веселая наука" (1881). Идеалы, волновавшие Ницше в первом периоде жизни, успели уже остыть; они виделись ему лишь как лёгкая познавательная пена; душа торопилась теперь укрепиться, усилить воё ощущение посредством того "реального" содержания, которое нес в себе естественнонаучный образ мыслей. И все же душа Ницше переполнена жизнью; сила этой внутренней жизни стремиться наружу из того, что способно дать естествознание. Естествознание показывает, как животное становится человеком, в ощущении внутренней живой силы души возникает представление: животное вынашивало в себе человека; не должен ли и человек нести в себе нечто высшее, сверхчеловеческое? И душа Ницше переживает теперь высвобождение сверхчеловека из человека; эта душа находит наслаждение в том, чтобы идеи, опирающиеся на чувственный мир, поднимать в область, которую не воспринимают чувства, которую можно прочувствовать, если душа переживает в себе смысл развития. Рольф посредством рассмотрения говорит: "Простого удовлетворения жизненных потребностей и пропитания недостаточно; необходимо предусмотреть действие и таких факторов, как достояние, если не богатство, власть и влияние. Стремление к постоянному улучшению жизненного положения является характерным инстинктом животного и человека". У Ницше результат этого рассмотрения становится внутренним переживанием, грандиозным гимном познанию. Познания, отражающего в себе внешний мир, недостаточно; это познание должно плодотворно возрастать; саморассмотрение является внутренней бедностью; в душе Ницше происходит зачатие нового внутреннего мира, которое осветляет все то, что и без того есть уже в человеке: в человеке рождается Еще-не-существующее, сверхчеловек, как смысл бытия. Познание перерастает привычные рамки, оно становится творческой властью. И когда человек творит, он становится в область смысла жизни. Ницше облекает в лирическую форму в своем "Заратустре" (1884) то, что переживает его душа в блаженстве творения "сверхчеловека" из человека. - Подобное чувствующее себя творческим познание ощущает в "я" человека больше, чем это можно пережить в течение жизни отдельного индивидуума; то, что имеется в этой отдельной жизни, не может быть исчерпано с ее завершением. Оно неизбежно возвращается к новой жизни. Таким образом, к идее Ницше о сверхчеловеке присоединяется идея "вечного возвращения" человеческой души.
Идея Рольфа о "повышении уровня жизни" вырастает у Ницше в представление "воли к власти", которую он приписывает всякому бытию и жизни в животном и человеческом мире. Это представление видит повсюду в жизни "присвоение, преследование, подавление чужого и слабого, угнетение, жестокость, навязывание собственных форм, захват и, по крайней мере, эксплуатацию". В книге "Так говорит Заратустра" Ницше поет "хвалебную песнь" вере в действительность, в развитие человека, в "сверхчеловека". В его неоконченной работе "Переоценка всех ценностей" он намеревался радикально изменить все представления с той точки зрения, что никакая иная воля не может иметь безусловное превосходство в человеке, как только воля к "власти".
Стремление к познанию становится у Ницше некой сущностью бытия, которая изживает себя в человеческой душе. В то время как Ницше чувствует в себе это оживление, жизнь ставит перед ним познание и истину, воспламенённые на ради жизни. Это привело его к отказу от всякой истины и к замене воли к истине "волей к власти", которая уже не спрашивает: истинно ли познание? но: служит ли оно сохранению жизни и требуется ли оно ей? "У всех философов речь идет вовсе не об "истине", а о чем-то ином, скажем, о здоровье, будущем, росте, власти, жизни…" Человек собственно всегда стремится к власти; только он предается иллюзии, что, якобы, он хочет "истины". Он путает цель и средство. Истина есть только средство для цели "власти". "Ложность какого-нибудь суждения не является еще возражением против суждения". Дело вовсе не в том, истинно суждение или нет, а в том, "насколько оно служит целям сохранения жизни, ее улучшения, сохранения рода или даже селекции". "Мышление большинства философов тайно принуждается инстинктами к следованию в определенном фарватере". Мировоззрение Ницше - это личное его ощущение, индивидуальное переживание и судьба. У Гете очевиден импульс новой мировоззренческой жизни; он чувствовал, что идеи оживают в самосознающем "я" таким образом, что с оживленными идеями это "я" может познавать себя во внутреннем существе мирового бытия. У Ницше преобладает импульс дать человеку выйти за свои границы; он чувствует, что во внутреннем творческом произведении открывается смысл жизни. И все же он не может существенно приблизиться к тому, что в человеке порождает сверхчеловеческое как смысл жизни. Он грандиозно воспевает сверхчеловека; но он не формирует его, однако; он чувствует ткущее бытие, но, увы, не созерцает его. Он говорит о "вечном возвращении, однако не характеризует того, что возвращается. Ницше говорит о том, что должно быть в неизвестном, но он ограничивается этим указанием на неизвестное. Сил, раскрывающихся в его самосознающем "я" недостаточно для Ницше, чтобы наглядно творить то, о чем он знает, что оно веет и ткет в человеческой природе.
Противоположность ницшеанской картине мира нашла самое радикальное воплощение в материалистическом понимании истории и жизневоззрении Карла Маркса (1818-1883). Маркс категорически отказывает идеям в каком бы то ни было участии в историческом развитии. Если что и лежит действительно в основе этого развития, то это реальные факторы жизни, из которых возникают мнения о мире, образуемые людьми соответственно их особенному положению в жизни. Работник физического труда, подчиняющийся другому, имеет иную картину мира, нежели человек умственного труда. Эпоха, заменяющая одну форму хозяйства другою, выносит на поверхность истории также и другие воззрения о жизни. Если желаешь понять какую-либо эпоху, то необходимо в целях объяснения привлечь господствующие в ней социальные и экономические отношения.
Все политические и духовные течения являются не более чем разыгрывающееся на поверхности отражение этих отношений. По существу они представляют собой идеальные последствия реальных фактов, но в самих этих фактах они не принимают никакого участия. Нельзя, таким образом, говорить также и об участии в поступательном развитии современного ведения жизни тех мировоззрений, которые обусловлены идеальными факторами; задача, напротив, состоит в том, чтобы воспринимать реальные конфликты там, где они сегодня имеются, и в том же смысле развивать их дальше. Это воззрение возникло благодаря материалистическому перетолкованию гегельянства. У Гегеля идея выступает в своем вечном развертывании, а следствием этого развертывания являются фактические обстоятельства жизни. Маркс намеревается через непосредственное рассмотрение хозяйственного развития построить концепцию общества, опирающуюся на те обстоятельства жизни, которые побуждали Конта формировать ту же концепцию, исходя из естественнонаучных представлений. Марксизм - это весьма смелое формирование некоторого духовного течения, которое берет начало в наблюдении внешних, открытых для восприятия и доступных исторических явлений и рассчитывает таким образом достичь понимания духовной жизни людей и всего культурного развития. Это называется современной "социологией". Она ни в коем случае не рассматривает человека как отдельное существо, а только лишь как звено в социальном развитии. Как человек представляет, познает, действует, чувствует - все это рассматривается как результат социальных сил, под влиянием которых находится отдельный индивид. Ипполит Тэн (1828-1893) называл совокупность сил, обусловливающих всякое культурное явление, "уровнем". Каждое произведение искусства, каждое учреждение, каждое действие находят объяснение в предшествующих и одновременных обстоятельствах. Если знаешь расу, уровень и момент, из которых и в который возникает всякое человеческое произведение, то можешь его и объяснить. Фердинанд Лассаль (1825-1864) в своей "Системе унаследованных прав" показал, как правовые учреждения: собственность, договор, семья, наследственное право и т. д. возникают и развиваются из круга представлений данного народа. Образ мыслей у римлян породил иную разновидность права, чем право, возникающее из образа мыслей немецкого народа. Во всех этих кругах мысли не поднимается вопрос: что возникает в отдельном человеческом индивидууме и что он совершает из импульсов своей исконной природы? В центре внимания находится иное: какое конкретное значение имеют социальные объединения для поддержания жизни индивида? В этом течении можно заметить прямо противоположное предпочтение по сравнению с тем, которое владело умами в начале столетия в связи с вопросом об отношении человека к миру. В ту пору еще вопрошали себя: какие права подобают отдельному человеку в силу его собственной сущности (естественное право), или: как познает человек в соответствие с индивидуальным разумом? Социологическое течение, напротив, вопрошает: какие правовые представления, какие познавательные понятия социальные объединения вкладывают в отдельного индивида? То, что я создаю себе определенные представления о вещах, не зависит, оказывается, от моего разума, а является результатом развития, из которого я появляюсь. В марксизме самосознающее "я" полностью изъято из своей собственной сущности; оно движется в мире фактов, которые развертываются по законам естествознания и социальных отношений. В этой картине мира бессилие новой философии по отношению к человеческой душой достигает последнего предела. "Я" - самосознающая человеческая душа - хочет найти в себе существо, благодаря которому оно придает себе значимость в мировом бытии. Оно не желает, однако, углубиться в самое себя; оно опасается не найти в собственных глубинах того, что дает ему бытие и сущность. Оно предпочитает получить свою собственную сущность от некоего существа, пребывающего вне его. При этом, согласно сложившимся в новую эпоху под влиянием естествознания привычкам мышления, оно обращается либо к миру материальных свершений, либо к миру социального становления. Оно надеется постигнуть себя в целокупности жизни, если оно скажет себе: я обусловлено этим свершением и становлением в совершенно определенном смысле. В подобном мировоззренческом устремлении можно ясно увидеть, как в душах людей к познанию призваны такие силы, о которых эти души имеют лишь некоторое смутное чувство, но которым они сначала не могут дать никакого удовлетворения посредством всего того, что порождает новые привычки мышления и исследования. В душах работает скрытая от сознания духовная жизнь. Она движет душами, заставляя погружаться в самосознающее "я" столь глубоко, что это самосознающее "я" может найти в своих глубинах нечто, ведущее к источнику мирового бытия. В этом источнике человеческая душа чувствует родственную связь с мировым существом, которое не обнаруживается вполне в явлениях и существах природы. По отношению к этим явлениям и существам природы новое время выработало некий идеал исследования, позволяющий чувствовать определенную уверенность в поисках. С той же уверенностью хотелось бы проводить исследования в душевной жизни. В предшествующих рассмотрениях было показано, как у задающих тон мыслителей подобное
стремление к уверенности в исследовании приводило к образованию такой картины мира, которая не содержала уже таких элементов, из которых можно было бы создать себе представление о душевной жизни. Повсюду возобладало стремление формулировать философию по образцу естественной науки, но при этом утрачивала смысл философская постановка вопросов. Задача, которая была поставлена человеческой душе из её глубины, далеко превосходила все то, что мыслящие личности хотели признать в качестве надежных методов исследования, соответствующих новым привычкам мышления.
При обозрении выше характеризованного положения мировоззренческой эволюции следует отметить в качестве её исключительного признака то давление, которое естественнонаучный образ мыслей оказывал на умы с момента своего утверждения. В качестве причины этого давления признают плодотворность и несущую силу данного образа мыслей . Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на такого естественнонаучного мыслителя, как Т. Хаксли (1825-1895). Хаксли не утверждает, что в естественнонаучном познании можно найти ответ на последние вопросы относительно человеческой души. Но он верит, что человеческое исследование должно оставаться внутри естественнонаучной манеры рассмотрения и сознаться себе, что у человека нет никаких средств для обретения знаний о том, что стоит за природой. В результате это мнение приводит к следующему: естественная наука не высказывается о высших познавательных надеждах человека. Зато она дает почувствовать, что она ставит исследование на твердую почву; другими словами, она предоставляет тому, что не входит в область ее предмета, опираться на себя самое или быть предметом веры.
Особенно четко это проистекающее из естественнонаучного образа мыслей давление запечатлелось в том мыслительном течении, которое под название "прагматизм" хотело в конце XIX - начале XX в. поставить на твердую основу всякое человеческое стремление к истине. Название "прагматизм" происходит из опубликованной в 1878 г. в американском журнале "Popular science (Популяная наука)" статьи Чарльза Пирса. Выдающимися представителями этой манеры представления были Уильям Джеймс в Америке и Фердинанд Скотт Шиллер (1864-1937) в Англии. Последний употреблял термин "гуманизм" ("Studies in Humanism""Уроки гуманизма" 1907). Прагматизм можно было бы назвать неверием в силу мысли. Он отказывает мышлению, которое хочет оставаться в себе - в способности производить нечто такое, что вправе заявить о себе как об истине, как о правдивом познании. Человек противопоставлен мировым процессам и призван действовать; мышление служит ему как помощник. Оно резюмирует факты внешнего мира в идеях, комбинирует их. Лучшими являются те идеи, которые облегчают человеку направление и ход деятельности, так что он может преследовать свои цели в созвучии с мировыми явлениями. И такие лучшие идеи человек признает как свою истину. Господином в отношении человека к миру является не мышление, а воля. В своей книге "Воля к вере" Джеймс высказывается следующим образом: "Воля определяет жизнь, - это ее исконное право; следовательно, ее правом является также постоянное влияние на мышление. Правда, это влияние касается не констатирования фактов в отдельности: рассудок должен самостоятельно двигаться в направлении фактов, - оно касается понимания и толкования действительности в целом. Если бы научное познание простиралось до последнего предела вещей, тогда мы жили бы единственно благодаря науке. Но поскольку наука всего лишь едва освещает окраины темного континента, который мы называем Универсумом, и поскольку мы, тем не менее, на свой страх и риск образуем некоторые мысли об Универсуме, коему принадлежим мы с нашей жизнью, то было бы правильно образовывать такие мысли, которые соответствуют нашему существу. Мысли, позволяющие нам действовать, надеяться, жить". Согласно этому воззрению, мысль не обладает никакой собственной жизнью, которая могла бы углубляться в себя и в смысле Гегеля вести к источнику бытия. Мысль только вспыхивает в человеческом "я" лишь для того, чтобы следовать за этим "я", когда оно на путях воли и жизни внедряется в мир. Прагматизм отнимает у мысли ту власть, которой она обладала с момента распространения греческого мировоззрения. Благодаря этому мышление становится продуктом и инструментом воли. По существу оно перестает быть элементом, в который погружается человек, чтобы найти свое "я" в истинном существе. Самосознающее "я" не погружается более в себя с помощью размышления; оно теряется в темных подосновах воли, где мысль не освещает ничего кроме целей жизни, которые, однако, не продиктованы мышлением. Власть внешних факторов над человеком становится чересчур сильной; упование сознания найти свет в собственной жизни мышления, который мог бы осветить последние загадки бытия, исчезло почти окончательно. В прагматизме работа новой мировоззренческой эволюции максимально удалена от того, что требует дух этой эволюции, а именно: своим самосознающим "я" посредством мышления найти себя в мировых глубинах, где это "я" переживает свою связь с источником бытия столь же интенсивно, как это переживали греки с помощью воспринимаемых мыслей. То, что дух требует именно этого, открывается особенно отчетливо как раз в прагматизме. Он ставит в центр своей картины мира "человека". На человеке хочет он показать, как правит действительность в бытии. Так главный вопрос касается элемента, в котором покоится самосознающее "я". Но сила мысли здесь недостаточна, чтобы внести освещение в этот элемент. Мысль отступает в верхний слой души, когда "я" желает идти в свои глубины.
На пути, подобном прагматизму, пошла в Германии "философия если бы" Ханса Файхингера (1852-1933). Этот философ усматривал в ведущих идеях, которые создает себе человек о мировых явлениях, не мыслеобразы, посредством которых познающая душа ставится в духовную действительность, а только фикции, которые помогают ему найти свое оправдание в мире. Например, "атом" невоспринимаем. Человек образует себе мысль об "атоме". Но он образует эту мысль не так, что тем самым он уже мог бы что-нибудь знать о действительности, а так, "как если бы" внешние явления природы возникли благодаря взаимодействию атомов. Если представить себе, что атомы действительно существуют, то порядок тотчас распадается в хаос воспринимаемых явлений природы. И так обстоит дело со всеми ведущими идеями. Они принимаются не для того, чтобы упорядочить фактическое, что возможно лишь через восприятие. В то время, как продумываются эти идеи, действительность воображается такою, "как если бы" в её основании лежало содержание наших представлений. Бессилие мысли, таким образом, сознательно ставится здесь в центр философствования. Власть внешних фактов с такой силой отягощает дух мыслителя, что он не отваживается проникнуть с помощью "простого мышления" в те области, откуда, как из своего первоисточника, проистекает внешняя действительность. Но поскольку надежда на познание человеческой сущности оправдана лишь тогда, если имеется духовное средство, позволяющее проникнуть в указанные области, то не может быть речи о какой бы то ни было близости "философии "как если бы"" к разрешению высших мировых загадок.
Как прагматизм, так и "философия "как если бы"" выросли из мыслительной практики эпохи, стоящей под знаком определяющего воздействия естественнонаучного образа мыслей. Естественная наука может иметь дело только с исследованием взаимосвязи внешних фактов, т. е. фактов, выступающих в поле чувственного наблюдения. При этом её интересует не то, что исследуемая ею взаимосвязь является также чувственно воспринимаемой, а то, что эта взаимосвязь имеется в указанном поле. Благодаря соблюдению этого своего основания новая естественная наука стала образцом всякого научного познания. Она и по сей день обусловливает мыслительную практику вроде прагматизма и "философии "как если бы"". Например, дарвинизм сначала считал своим долгом установить линию развития от несовершеннейших существ к совершеннейшим, рассматривая человека как более высокую ступень развития по сравнению с человекообразной обезьяной. Анатом Карл Гегенбауер уже в 1870 г. отметил плодотворность метода исследования, который был применен к идее эволюции. В новое время этот метод был развит далее, и можно сказать, что, если этот метод хочет остаться верным самому себе, он выводит за сферу тех воззрений, с которыми он первоначально был связан. Исследование проводилось так, "как если бы" человек находился в линии развития человекообразной обезьяны; затем пришли к выводу, что этого не может быть, но что в начале времен должно было жить некое существо, которое имело в человеке своего потомка, в то время как человекообразные обезьяны образовали несовершенный вид этого существа. Таким образом, новая концепция развития была только вспомоществованием для исследования.
Доколе в естествознании господствует такая мыслительная практика, кажется вполне оправданным отказать в познавательной ценности усилиям чистого мыслительного исследования, направленным на разрешение мировой загадки в самосознающем "я". Естествоиспытатель чувствует себя стоящим на надежной почве, пока он видит в мышлении только средство ориентирования в мире внешних фактов. Блестящие достижения естественной науки в конце XIX и начале ХХ в. вполне согласуются с такой мыслительной практикой. В методе исследования естественной науки действует прагматизм и философия "как если бы"; хотя эти последние выступают лишь как философские направления мысли, в этом факте проявляется основной характер новой мировоззренческой эволюции.
Мыслители, инстинктивно ощущающие требования нового мировоззренческого духа, должны были, понятно, ставить перед собой вопрос: как сохранить перед лицом образцовой естественной науки представление самосознающего "я"? Естественная наука создала картину мира, в которой не оставалось места для самосознающего "я". Ибо в образе внешнего человека, созданном естествознанием, душа с её самосознанием обитала лишь в том смысле, как в магните его притягательная сила. Налицо две возможности. Во-первых, можно вполне поддаться иллюзии насчет того, что "мозг мыслит" и что "духовный человек" является лишь поверхностным проявлением материального. Во-вторых, можно узнать в этом "духовном человеке" некоторую самостоятельную сущностную действительность и благодаря такому познанию человека выйти за пределы естественной науки. Эту вторую возможность предпочли для себя французские философы Эмиль Ботро (1845- ?) и Анри Бергсон (1859-1941).
Ботро исходит из критики нового образа мыслей, сводящей все мировое свершение к законам естественнонаучного толка. Разумеется, говорит он, например, растение содержит в себе процессы, подлежащие законам, действующим также и в минеральном мире. Но совершенно невозможно представить себе, что минеральные законы могут из собственного содержания породить растительную жизнь. Если признать, что растительное бытие развивает свою активность на почве минерального, то этому надо предпослать полное безразличие минерального к тому, произойдет ли из него растительное или нет. Скорее к минеральному должно подойти нечто самостоятельно творящее, если надлежит возникнуть растительному. Отсюда всюду в природе царит творящее начало. Оно позволяет произойти из себя растительному и ставит его на минеральную почву. И так обстоит дело во всех сферах природы вплоть до сознательной человеческой души, вплоть до социологических свершений. Человеческая душа происходит не из простых законов живого, а непосредственно из перво-творящего, и присоединяет к своей сущности жизненные законы. Также и в социологическом обнаруживается перво-творящее, которое приводит человеческие души в соответствующие взаимосвязь и взаимодействие. В книге Ботро "О понятии закона природы в современной науке и философии" можно прочесть следующее: "Наука показывает нам… некоторую иерархию наук, иерархию законов, которые мы, правда, стараемся подвинуть ближе друг к другу, но отнюдь не сплавлять всего в единственную науку и в единственный закон. Вместе с тем она показывает нам наряду с относительной неоднородностью законов также их взаимообусловленность. Физические законы навязывают себя живому существу, но вместе с физическими действуют биологические законы". Таким образом, Ботро отворачивается от утвердившихся в мышлении законов природы и обращается к господствующему позади этих законов творящему началу, из которого, по его мнению, непосредственно возникает мир чувствующих существ. Как эти существа относятся друг к другу, как они вступают во взаимодействие, - это можно изобразить с помощью законов, постигаемых в мышлении. Тем самым, помысленное становится откровением существ в мире. Основой законов природы становится для этого образа мыслей материя. Существа действительны и открываются согласно законам; совокупность этих законов, т. е. в сущности, недействительное, связанное с представляемым бытием, образует материю. Так Ботро может сказать: "Движение (он имеет ввиду совокупность того, что по законам природы благодаря существам происходит между последними) в себе является, очевидно, такой же абстракцией, как и мышление в себе. Фактически имеются только существа, природа которых является промежутком между чистым понятием мышления и движением. Эти живые существа образуют некоторую иерархию, в которой циркулирует деятельность снизу вверх и сверху вниз. Дух не движет материю ни непосредственно, ни опосредованно. Ибо не существует никакой грубой, черновой материи. То, что составляет существо материи, тесно связано с тем, что образует существо духа". ( В той же книге стр. 131). Но если законы природы являются только стечением взаимоотношений существ, то и человеческая душа стоит в мировом целом не так, что может быть объяснена из природных законов, но из своего собственного существа она присоединяет к другим законам свое откровение. Но тем самым гарантируется свобода человеческой души, самооткровение собственного её существа. В этом философском образе мыслей можно увидеть попытку уяснить подлинную сущность картины природы, чтобы обосновать, как человеческая душа к этой картине относится. И Ботро приходит к такому представлению человеческой души, которое является самооткровением её самой. Раньше, полагает Ботро, во взаимоотношениях существ усматривали откровение "настроения и произвола" духовных сущностей. От этого новое мышление освободилось с помощью познания природных законов. Поскольку эти законы обусловлены взаимоотношениями существ, они не содержат в себе ничего такого, что могло бы оказать на этих существ определяющее влияние. "Открытые современной наукой механические законы природы в действительности представляют собой не более чем связь, соединяющую внешнее с внутренним. Далекие от того, чтобы быть необходимостью, они освобождают нас; они позволяют нам к созерцанию, в котором были заперты древние, присоединить науку действия". Это ясное указание на часто упоминавшееся в нашей книге требование нового мировоззренческого духа. Древние должны были остаться при своем созерцании. Они ощущали, что в рассмотрении мыслей душа находится в элементе своей собственной сущности. Новое развитие требует "науку действия". Она может возникнуть лишь в том случае, если душа посредством мышления постигнет себя в самосознающем "я" и в духовном переживании придет к внутреннему собственному производству, внутренним собственным порождениям, благодаря которым она сможет увидеть себя в своём собственном существе.
Анри Бергсон старается другим путем подойти к существу самосознающего "я", так, чтобы естественнонаучный образ мыслей не оказался препятствием. Существо мышления в ходе мировоззренческой эволюции от античности до наших дней само превратилось в мировую загадку. Мысль изъяла человеческую душу из мирового целого. Так что душа живет с мыслью и обращается к ней с вопросом: как ты снова приведешь меня к тому элементу, в котором я могу действительно чувствовать себя внутри мирового целого? Бергсон рассматривает научное мышление. Он не находит в нем силы, посредством которой он мог бы, так сказать, воспарить в настоящую действительность. Мыслящая душа противостоит миру и получает мыслеобразы о нем, которые она комбинирует. Но то, что она таким образом получает, находится не в действительности, а вне неё. Бергсон говорит о мышлении следующее: "Полагают, что посредством нашего мышления из подвижной реальности могут быть получены твердые понятия; но ведь это совершенно невозможно - с помощью твердости понятий реконструировать подвижность действительности". (см. "Введение в метафизику", нем. изд. 1909 стр.42). Исходя из подобных мыслей, Бергсон приходит к умозаключению, что все попытки посредством мышления проникнуть в настоящую действительность несостоятельны, ибо они предпринимают нечто такое, что не под силу мышлению, как оно сложилось в науке и жизни. Но хотя Бергсон, таким образом, признает бессилие мышления, это не является для него основанием проникнуть к подлинной действительности посредством правильного переживания в самосознающем "я", поскольку имеется иной, а именно внемыслительный путь в "я", путь непосредственного переживания, интуиции. "Философствование состоит в том, чтобы повернуть вспять обычное направление мыслительной работы". "Относительным является символическое познание посредством прежде установленных понятий, которое идет от твердого к подвижному, но ни в коем случае не интуитивное познание, которое само перемещается в подвижное и жизнь вещей делает своей собственной". Бергсон постулирует преобразование обычного мышления; благодаря такому преобразованию душа переживает себя в некоторой деятельности - в интуитивном восприятии, - которая едина с бытием, пребывающим позади того, что воспринимается обычным сознанием. В таком интуитивном восприятии душа переживает себя как существо, не обусловленное телесными процессами. Благодаря этим процессам вызывается ощущение и осуществляются движения человека. Когда человек воспринимает своими органами чувств, когда он движет своими членами, в нем действует, правда, телесное существо; но когда он вспоминает о каком-нибудь представлении, то в нем разыгрывается чисто душевно-духовный процесс, не обусловленный соответствующими телесными процессами. Так что вся внутренняя жизнь души является собственной жизнью душевно-духовного типа, протекающей в теле и на теле, но не посредством тела. Бергсон подробно анализирует те естественнонаучные открытия, которые противостоят его воззрению. Ведь, в самом деле, кажется столь оправданной мысль, что душевные проявления коренятся лишь в телесных процессах, если представить себе, что, например, заболевание некоторой части мозга обусловливает выпадение речевых функций, афазию. Можно указать бесконечное множество таких фактов. Бергсон полемизирует с ними в работе "Материя и память" (1908). Он находит, что эти факты не дают доказательной базы против его воззрения на самостоятельную душевно-духовную жизнь.
Таким образом, в лице Бергсона философия нового времени обратилась к поставленной эпохой задаче погружения в переживание самосознающего "я", но она совершает этот шаг, декретируя бессилие мышления. Ибо там, где "я" должно переживать себя в своем собственном существе, оно не может ничего начать с мышлением. Точно также для Бергсона обстоит дело и с исследованием жизни. То, что действует в развитии живых существ, что направляет их по ступеням возрастающего совершенства, не подвластно познанию посредством мыслящего рассмотрения живых существ, как они в своих формах встают перед человеком. Нет, если человек переживает в самом себе себя как душевную жизнь, он находится в том жизненном элементе, который живет в существах и который в нем познавательно созерцает сам себя. Этот жизненный элемент должен был сначала излить себя в бесчисленных формах, чтобы посредством этого излияния подготовиться к тому, чем он стал в человеке. Сила жизненного подъема, которая в человеке становится мыслящим существом, присутствует уже в простейшем из созданий; ее вклад в творение живых существ велик настолько, что в ее проявлении в человеке выступает уже только оставшаяся часть, но зато такая, которая проявляет себя как плод всего предшествующего жизненного творения. Так что сущность человека наличествует прежде всех других живых существ; но она может изживать себя в качестве человека лишь после того, как оттолкнет от себя все другие формы жизни, которые затем человек воспринимает как внешние безразличные вещи. Из своего интуитивного познания Бергсон старается в такой степени оживить результаты естествознания, чтобы иметь основание на следующее суждение: "Все происходит так, как если бы некоторое неопределенное и волящее существо, назовём ли мы его человеком или сверхчеловеком, стремилось к осуществлению и достигало его лишь ценою утраты части своего существа. Эти потери и представляют собой оставшуюся животность и даже растительный мир; по крайней мере, настолько они означают нечто позитивное, отпавшее по случайности развития".
Из легко сотканного, легко достигаемого размышления Бергсон выносит идею развития, которую уже в 1882 г. глубокомысленно выразил В. Пройс в книге "Дух и материя" (Ольденбург изд.2; 1899). В соответствие с этим мыслителем человек не может произойти из других существ природы. Напротив, с самого начала человек является основным существом, которое, прежде чем получить обретённый ею на Земле облик, должно было сначала оттолкнуть свои предшествующие ступени в других живых существах. "Должно… настать время для признания учения о происхождении органических видов, которое не опиралось бы исключительно на односторонние тезисы из области описательной естественной науки, но вполне согласовалось бы с остальными законами природы, которые вместе с тем являются законами человеческого мышления. Это учение лишено всякого гипотезирования и покоится только на строгих выводах из естественнонаучных наблюдений в широком смысле слова. Это учение, которое спасает понятие вида, насколько это фактически возможно, но одновременно усваивает сформулированное Дарвином понятие эволюции и пытается сделать его плодотворным. - Средоточием этого нового усилия является человек, только однажды возвращающийся на нашу планету вид: Homo sapiens. Замечательно, что прежние наблюдатели останавливались на рассмотрении природы и не могли найти путь к человеку; не нашел его и Дарвин, когда он искал отца творения среди животных. Исследователь природы должен начинать с себя как человека, чтобы пройдя через всю область бытия и мышления возвратиться к человечеству. Это не случайность, а необходимость, что человеческая природа происходит из земной природы. Человек является целью всех теллурических процессов, и всякая другая форма наряду с ним заимствует у него признаки и свойства. Человек является перворожденным существом целого Космоса... Когда возникали его зародыши, остававшийся органический остаток не имел уже силы, необходимой для дальнейшего порождения человеческих зародышей. То, что еще могло возникнуть, стало растением или животным".
Подобное воззрение стремится к познанию человека, опирающегося благодаря новой мировоззренческой эволюции на себя самого - вне природы, - чтобы затем в таком познании человека найти нечто такое, что бросает свет на существо окружающего человека мира. В таком мало известном мыслителе из Эльсфлета, В. Пройсе, всплывает стремление через познание человека придти одновременно к миропознанию. Его энергичные
и значительнейшие идеи направлены непосредственно на человеческое существо. Он рассматривает это существо как борющееся в бытии. То, что эта существо должно, отбрасывая от себя, оставлять позади себя на своём пути, и является природой с её существами на низших ступенях развития и составляет окружающую человека среду. - Развитие новой философии отчетливо показывает, что она ступила на путь к разрешению мировых загадок через обоснование человеческой сущности, которая раскрывается в самосознающем "я". И чем сильнее укрепляются в этом стремлении, тем больше это стремление близится к таким переживаниям человеческой души, которые не просто проясняют знание самой человеческой души, но в них вспыхивает нечто такое, что позволяет достоверно высказываться о мире, лежащим вне человека. Взгляд на воззрение Гегеля и родственных ему мыслителей вызывал у новых мыслителей сомнение в том, что в мышлении может заключаться сила, способная осветить мир за пределами душевного существа. Элемент мысли стал казаться слишком слабым для того, чтобы в нем развернулась жизнь, в которой содержались бы откровения о существе мира. Естественнонаучный образ мыслей требовал такого проникновения в существо души, которое опиралось бы на более надежную почву, чем это позволяет мышление.
Значительным явлением в этих исканиях и стремлениях новейшего времени была философия Вильгельма Дильтея (1883-1911). Во "Введении в духовные науки" и докладе "О происхождении нашей веры в реальность внешнего мира и его право" (1890) он непосредственно касается того, что как загадка философии тяготело над новой мировоззренческой эволюцией. Правда, принятая в ученых кругах манера выражения, в которой преподносятся представления Дильтея, затрудняют понимание того, что собственно он хотел сказать. - Согласно Дильтею, человек со всеми своими мыслями и представлениями не может придти к уверенности в том, что восприятия чувств соответствуют действительной, независящей от человека сущности. Всё мыслимое, представляемое, чувственно воспринимаемое есть образ; и мир, окружающий человека, мог бы быть сновидением из образов своего собственного существа, не будучи независимой от человека действительностью, если бы человек был вынужден единственно через эти образы обнаруживать эту действительность. Однако не одни только эти образы раскрываются в душе . В воле, стремлении, чувстве открывается в ней жизненная взаимосвязь, которая исходит от нее, в которой она чувствует себя и действительность которой она признает не только через мыслительное познание, но и через непосредственное переживание. В качестве волящей и чувствующей душа переживает себя самое как действительность. И все же, если бы она переживала себя только таким образом, она должна была бы уверовать, что её действительность является единственной в мире. Это было бы справедливо лишь в том случае, если бы её воля могла бы развертываться во все стороны, нигде не встречая сопротивления. Но этого не происходит. Намерения воли не могут изживаться беспрепятственно. В них проникает нечто такое, чего они не порождают сами и что они должны всё же принимать в себя. "Здоровому человеческому рассудку" такой ход мыслей философа может показаться казуистическим. Но историческое рассмотрение не должно обращать внимание на суждение такого рода. Для него важно вполне познакомиться с трудностями, с которыми столкнулась новая философия, пытаясь ответить на простой и даже кажущийся излишним "здравому смыслу" вопрос: можно ли называть истинно действительным тот мир, который человек видит, слышит и так далее? "Я", которое, - как это было показано в представленной здесь истории развития философской мировой загадки, - утратило свою связь с миром и хочет в своем существе, рассматривающем себя как ставшую одинокой сущность, вновь найти утраченную связь с миром. Дильтей полагает, что этот путь не может быть найден, если сказать : душа переживает образы (мысли, представления, ощущения), и поскольку эти образы выступают в сознании, они должны в некоем действительном внешнем мире иметь свои причины. По мнению Дильтея, это суждение не дает права говорить о действительном внешнем мире. Ибо этот вывод производится в душе, внутри неё и по её потребности; и ничто не свидетельствует о том, что во внешнем мире действительно имеется нечто такое, что там должно быть, поскольку в это верит душа. Нет, душа не может умозаключать о внешнем мире, т. к. в противном случае она подвергается опасности, что ее умозаключения останутся жить лишь в ней самой и для внешнего мира не будут иметь никакого значения. Достоверность о внешнем мире душа может иметь лишь в том случае, если этот внешний мир проникает в "я" так, что в этом "я" живет уже не только "я", но и сам внешний мир. По мнению Дильтея, это происходит тогда, если в волении и чувствовании душа переживает нечто такое, что проистекает не из нее самой. Дильтей старается с помощью самоочевидного фактического положения дел ответить на вопрос, который для него является главным во всяком мировоззрении. "Когда ребенок упирается рукой в стул, чтобы его подвинуть, его сила наталкивается на сопротивление: собственная жизнь и объект переживаются вместе. Но если оставить ребенка взаперти, он тщетно ломится в дверь; тогда вся его возбужденная волевая жизнь внутри подвергается давлению сверхмощного внешнего мира, который тормозит, ограничивает и как бы сжимает его собственную жизнь. За стремлением избежать неудовольствия, удовлетворить все свои побуждения следует сознание преграды, неприятности, неудовольствия. То, что переживает ребенок, проходит через всю жизнь взрослого человека. Сопротивление становится давлением, мы всюду чувствуем себя окруженными высокими стенами фактичности, которые нам не можем проломить. Впечатления сохраняются, независимо от того, хотим ли мы их изменить; они изменяются, хотя мы стараемся их удержать; за некоторыми двигательными импульсами, которые исходят от представления как избежать неудовольствия, следуют при определённых обстоятельствах регулярные эмоциональные движениями, удерживающие нас в сфере неудовлетворённости. Вот так вокруг нас как бы все более уплотняется реальность внешнего мира". Для чего такое, кажущееся многим людям незначительным рассмотрение поставлено в связь с высшими мировоззренческими вопросами? Кажется бесперспективным, исходя из такой точки зрения, придти к воззрению о том, какое положение занимает человеческая душа в мировом целом. Существенное, однако, состоит в том, чтобы философия, пришла к такому рассмотрению на пути, который - если ещё раз вспомнить слова Брентано - был предпринят, чтобы "обеспечить гарантию надеждам Платона и Аристотеля на продолжение жизни нашей лучшей части после распада нашего тела….". Обеспечить такую гарантию кажется всегда тем труднее, чем дальше продвигается вперёд мыслительное развитие. Самосознающее "я" всё больше чувствует себя вытолкнутым из мира; оно, по видимому, находит в себе всё меньше элементов, которые ещё связаны с миром иным образом, нежели "тело, подлежащее распаду". Когда "я" ищет достоверного познания о своей связи с вечным миром духа, то само теряет уверенность познания о связи с миром, который раскрывается ему посредством чувственного восприятия. - При рассмотрении мировоззрения Гёте обращалось внимание на то, как в пределах последнего поиски были направлены на такие переживания в душе, которые могли бы перенести эту душу в действительность, которая, как некий духовный мир лежит за чувственно-воспринимаемым. Поиски были направлены на то, чтобы внутри души пережить нечто, благодаря чему душа не оставалась бы больше только в себе, несмотря на то, что это переживание она ощущала бы как своё собственное. Душа ищет в себе мирового переживания, благодаря которому она может сопереживать в мире то, что невозможно сопережить при посредстве одних лишь телесных органов. Дильтей стоит в том же самом течении философского развития, несмотря на кажущиеся излишки в его способе рассмотрения. Он хотел бы указать внутри души на нечто такое, что, будучи пережито в душе, всё же не принадлежит ей, а принадлежит тому, что независимо от неё. Он хотел бы указать, что мир вторгается в переживания души. В то, что такое вторжение может происходить в мыслительной сфере, он не верит; для него душа вбирает во всё своё жизненное содержание, в волю, стремления и чувства нечто такое, что является не только душой, но и реальным внешним миром. Душа познаёт противостоящего ей человека как реальность внешнего мира не потому, что этот человек противостоит ей и она образует о нём представление, но потому, что она его волю, его чувства, его живые душевные связи вбирает в свои собственные волю и чувства. Тем самым человеческая душа - в смысле Дильтея - может ценить реальный внешний мир не потому, что этот внешний мир на мыслительном уровне возвещает свою реальность, но потому, что душа - самосознающее "я" - переживает внешний мир в самой себе. Тем самым этот философ встаёт перед признанием более высокого значения духовной жизни по отношению к чисто природному бытию. Этим воззрением он выставляет противовес естественнонаучному образу мыслей. Да, - полагает он, - природа признаётся в качестве реального внешнего мира лишь потому, поскольку она переживается в душе духовным началом. Переживание природного есть низшая область общего душевного переживания, которое носит духовный характер. Духовно душа стоит внутри всеобщего духовного раскрытия в земном бытии. Великий духовный организм развивается и расцветает в системах культур, в духовных переживаниях, в созидании народов и эпох. То, что в этом духовном организме развивает его силы, проникает и в отдельную человеческую душу. Она вросла в этот духовный организм. То, что она переживает, совершает, творит, проистекает не только от естественных побуждений её собственных импульсов, но и от всеохватывающей духовной жизни. Манера Дильтея исполнена пониманием по отношению к естественнонаучному образу мыслей. В своём изложении ему часто приходится говорить о достижениях в исследовании природы. И всё же признанию природного развития он противопоставляет самостоятельное существование духовного мира. Содержание науки о духовном он получает из рассмотрения того, что раскрывают культуры народов и эпох.
К похожему признанию самостоятельного духовного мира приходит Рудольф Ойкен (1846-1926). Он находит, что естественнонаучный образ мыслей вступает в противоречие с самим собой, когда хочет в большей степени рассматривать лишь одну сторону бытия, хочет истолковать как единственную реальность то, что он в состоянии понять. Наблюдая ту природу, которая даётся нам исключительно посредством органов чувств, человек никогда не сможет достичь общего воззрения о ней. Чтобы объяснить природу, необходимо найти доступ к тому, что может переживать дух, причём переживать лишь посредством себя самого, найти доступ к тому, что дух никогда не сможет получить из внешнего наблюдения. Ойкен исходит из живого чувства, которое имеет душа от её собственной самостоятельной работы и творчества, имеет тогда, когда предается рассмотрению природы. Он не недооценивает то, что душа зависит от того, что она воспринимает с помощью своих чувственных инструментов, как она определяется всем, что заложено в природных основах тела. Но он направляет взор на самостоятельную, упорядоченную независимо от тела живую деятельность души. Миру ощущений, миру восприятий душа задаёт направление, даёт замкнутую в себе связь. Она определяется не только теми импульсами, которые приходят к ней через физический мир, но переживает в себе чисто духовные побуждения. Благодаря им она знает себя саму в качестве спящей внутри реального духовного мира. В то, что она переживает, творит, проникают силы из некоего духовного мира, которому она принадлежит. Этот духовный мир переживается в душе непосредственно, реально, когда душа сознаёт себя единой с ним. Видя себя так - в смысле Ойкена - душа оказывается несомой неким живым, творящим духовным миром. По мнению Ойкена мыслительное, интеллектуальное начало недостаточно мощно для того, чтобы исчерпать все глубины этого духовного мира. То, что втекает в человека из этого духовного мира, изливается во всю душевную жизнь во всем её охвате, а не только в интеллект. Духовный мир наделён сущностным, личностным характером. Он оплодотворяет мыслительное начало, но не только его. Душа смеет чувствовать себя в сущностных духовных связях. С большим воодушевлением и размахом Ойкен в своих многочисленных трудах описывает деятельность и существ этого духовного мира. В сочинениях: "Борьба за духовное содержание жизни", "Истинное содержание религии", "Основные направления нового воззрения о жизни", "Духовные течения современности", "Воззрения о жизни у великих мыслителей", "Познание и жизнь" он пытается с разных точек зрения показать, как человеческая душа, переживая самоё себя, при этом переживании понимает, что она включена, пронизана пульсом творящего живого духо-бытия, внутри которого она является частью и членом. Подобно Дильтею, Ойкен в качестве содержания самостоятельной духовной жизни описывает то, что отображается в человеческой культуре, в нравственных, технических, социальных, художественных творениях народов и эпох. Поскольку данное описание является историческим, здесь нет места для критики описываемых мировоззрений. Не ради критики можно указать на то, как мировоззрение выдвигает из себя новые вопросы благодаря его собственному характеру. Тем самым оно становится членом исторического развития. Дильтей и Ойкен говорят о самостоятельном духовном мире, в который включена отдельная человеческая душа. Их учение об этом духовном мире вызывает, однако, вопросы: что представляет собой этот духовный мир и как принадлежит ему человеческая душа? Исчезает ли отдельная душа с распадом тела, после того как она участвовала в развитии той духовной жизни, которая изживается в культурных творениях народов и времен? Конечно можно - с точки зрения Дильтея и Ойкена - ответить на эти вопросы так: к выводам по этим вопросам ведёт как раз нетто, что может познать человеческая душа в её собственной жизни. И же для характеристики неких мировоззрений следует сказать, что они, вследствие своего способа рассмотрения не ведут к тем познавательным средствам, которые могли бы вывести душу - или самосознающее "я" - за пределы того, что переживается в связи с телом. Ойкен столь интенсивно подчёркивает самостоятельность и реальность духовного мира, что в соответствие с его мировоззрением душа переживает в этом духовном мире и посредством его то, что она переживает посредством тела. Часто упоминаемые в данном тексте "надежды Платона и Аристотеля" в связи с существом души и её свободным от тела отношением к духовному миру, не затрагиваются таким мировоззрением. Оно показывает не больше, чем то, что душа пока она является в теле, принимает участие в духовном мире, по праву называемом реальным. О том, чем является она в духовном мире как самостоятельное духовное существо, в рамках этой философии, по сути, речь не идёт. Наиболее характерным в данном образе мыслей является то, что он хотя и приходит к признанию некоего духовного мира и даже к признанию духовной природы человеческой души, но из этого признания не вытекает познания того, какое положение в мировой действительности занимает эта душа - самосознающее "я", - исключая то, что она посредством телесной жизни обладает сознанием о духовном мире. Историческое место этого образа мыслей в философской эволюции будет высвечено, если узнают, что этот образ мыслей поставил вопросы, на которые он сам своими собственными силами и средствами ответить не может. Этот образ мыслей энергично утверждает, что душа в самой себе осознаёт от неё самой независимый духовный мир. Но как достигается это сознание? Всё же лишь посредством тех познавательных средств, способностей, которыми обладает душа в рамках своего телесного бытия и посредством последнего. В рамках этого бытия возникает уверенность в том, что существует духовный мир. Но душа не находит никакого пути, чтобы своё собственное, замкнутое в себе существо переживать в духе вне телесного бытия. То, что изживает, побуждает и творит в ней дух, душа воспринимает до тех пор, пока телесное бытие даёт ей возможность для этого. Чем является она в духовном мире как дух, является ли она там как особое существо - вот вопрос, на который нельзя ответить лишь при посредстве простого признания того факта, что душа, будучи в теле может осознавать себя единой с живым, творящим духовным миром. Для такого ответа было бы необходимо, чтобы самосознающая человеческая душа, будучи подвигнута к познанию духовного мира, могла бы также осознать и то, как сама она живёт в духовном мире, будучи независимой от телесного бытия. Духовный мир должен был бы не только дать душевному существу возможность признать его, но он должен был бы сообщить её нечто от своего собственного вида, своей собственной специфики. Духовный мир должен был бы показать душевному существу, насколько он является иным, нежели мир чувственно-воспринимаемый; показать, как он позволяет этому душевному существу принимать участие в этом своём инобытии.
Чувство относительно этих вопросов живёт у тех философов, которые хотят рассматривать духовный мир, направляя взор на то, что, по их мнению, не может выступать в рамках чистого рассмотрения природы. Если бы было дано нечто, по отношению к чему естественнонаучный образ мыслей обнаруживал бы свою несостоятельность, то это нечто могло бы стать ручательством правомерности принятия духовного мира. Такое направление мысли выявляется у фон Лотце (см. стр. … этого тома); энергичными современными представителями этого течения является Вильгельм Виндельбанд (1848-1915), Генрих Риккерт (1863-1936), и другие философы. Они придерживаются взгляда, что в рассмотрение мира входит один элемент, от которого естественнонаучный образ мыслей отскакивает рикошетом, если внимание обращается на "ценности" (Werte), являющиеся определяющими в человеческой жизни. Природа - это не мечта, не сон, но реальность, если она позволяет доказать, что в переживаниях души живёт нечто, независимое от самой души. Действия, стремления, волевые импульсы души не есть проблеснувшие и исчезнувшие искры в море бытия, если человеку приходится признать, что они наделены "ценностями", независимыми от души. Такие ценности должны, однако точно так же оценивать душу за её волевые импульсы, за её действия, как и она должна придавать ценность своим восприятиям, считая, что они производятся не только в ней. Поступки, волеизъявления человека выступают не только как природные факты; они должны осмысливаться с точки зрения их правовой, нравственной, социальной, эстетической и научной ценности. И даже если с правом отмечают, что в ходе развития народов и с течением времени взгляды людей на правовые, нравственные, эстетические ценности, на критерии истины изменяются, даже если Ницше может говорить о "Переоценке ценностей", то следует всё же признать, что ценность действия, мышления, воления определяется извне, подобно тому, как представлению извне придаётся характер действительности. В смысле "философии ценностей" - аксиологии - можно сказать: как во внешнем природном мире давление и сопротивление позволяют решать, является ли какое-либо представление действительностью или образом фантазии, так блеск и одобрение, падающие на душевную жизнь со стороны духовного мира позволяет решать, имеют ли ценность в мировых взаимосвязях волевые импульсы, деяния, мышление, или они являются всего лишь произвольными излияниями души. - Как поток ценностей течёт духовный мир через жизнь людей в ходе истории. Когда человеческая душа ощущает своё нахождение в том мире, который обусловлен ценностями, она переживает себя в духовном элементе. - Если отнестись к этому образу мыслей со всей серьёзностью, то все высказывания, суждения, которые делает человек о духовном начале, надо было бы сообщать в форме ценностных суждений. Человеку следовало бы в случае всего, что не открывается естественным образом и оттого не может быть познано посредством естественнонаучного образа мыслей, говорить лишь о том, как, и в каком направлении подступает к нему в мировом целом ценность, независимая от души. Следовало бы задать вопрос: если относительно человеческой души отказаться от всего, что говорит о ней естествознание, то является ли она как принадлежащая духовному миру полноценной, чья ценность не зависит от неё самой? И можно ли разрешить философскую загадку в отношении души, если допускается говорить не об её бытии, а лишь об её ценности? Не должна ли "философия ценностей" - аксиология - всегда использовать для этой загадки оборот речи, подобный тому, с помощью которого Лотце говорит о продолжении существования души? (см. стр…157 том 2). "Поскольку каждое существо мы рассматриваем лишь как творение Бога, то изначально нет никакого права, к которому как к некой "субстанции" могла бы взывать отдельная душа, чтобы требовать вечно длящегося индивидуального бытия: каждое существо будет сохраняться Богом столь долго, пока его бытие полноценно, имеет ценностное значение для Его всецелого мирового плана…". Здесь говорится о "полноценности" души, как о решающем; но обращается внимание и на то, насколько эта полноценность может быть связана с содержанием бытия. Позиция аксиологии, "философии ценностей" в мировоззренческой эволюции можно понять, думая о том, что естественнонаучный образ мыслей имеет склонность всякое познание бытия подстраивать под себя. Тогда философии остаётся изучать остальное, нечто иное, нежели бытие. Такое "Иное" видят в "Ценности". В качестве неразрешимого вопроса это можно узнать из изречения Лотце: "А возможно ли вообще останавливаться на ценностных определениях и отказывать в ценности познанию форм бытия?"
* * *
Многие новейшие направления мысли представляют собой попытку в самосознающем "я", которое в ходе философской эволюции всё больше ощущало себя эмансипированным от мира, отыскать нечто, что снова повело бы к связи с миром. Воззрения Дильтея, Ойкена, Виндельбанда, Риккерта и других являются в рамках современной философии такими попытками, которые, наряду с запросами естествознания, обращают внимание на рассмотрение душевных переживаний, так, чтобы наряду с естественной наукой могла бы появиться и духовная наука. К одной и той же цели направлены течения мысли, которые развивает Генри Коген, Пауль Натроп, Август Штадлер, Эрнст Касирер, Вальтер Кинкель и другие философские соратники по мысли. Когда эти мыслители направляют взор на само мышление, они верят, что им в высшей мыслительной деятельности самосознающего "я" удаётся охватить некое душевное состояние, которое позволит душе погрузиться в действительное бытие. Они направляют своё внимание на то, что кажется им высшим плодом мышления: на не связанное более с восприятием, чистое мышление, оперирующее лишь с мыслями, понятиями. Простым примером такового было бы мышление о круге, при котором человек совершенно отстранялся бы от представления того или иного круга. Насколько чисто в этом смысле способен мыслить человек, настолько обогащается его душа силой того, что может погружаться в действительность. Ибо то, что может быть мыслимо так, собственное существо человека посредством мышления высказывает человеческому сознанию. Сообразно с этим науки - посредством своих наблюдений, экспериментов и методов - стремятся придти к таким результатам относительно мира, которые могут быть охвачены чистым мышлением. Им, правда, придётся перенести достижение этой цели в отдалённое будущее; но, несмотря на это, можно сказать: в той мере, насколько они стремятся иметь чистое мышление, чистую мысль, они борются и за то, чтобы истинную сущность вещи сделать достоянием самосознающего "я". - Если человек наблюдает нечто в чувственно-воспринимаемом мире или по ходу исторической жизни, то он - в соответствие с данным образом мыслей - истинной действительности перед собой не имеет. То, что наблюдение доводит до органов чувств - есть лишь выражение потребности искать действительность, но ещё не сама действительность. Если только вследствие деятельности души в том месте, куда направлено наблюдение, станет видимой мысль, будет познана действительность того, что в этом месте находится. Прогрессивное познание на место наблюдаемого в мире ставит мысль. То, что сначала показывало наблюдение, имело место лишь постольку, поскольку человек со своими органами чувств, со своими повседневными представлениями, в своей ограниченности наглядно конкретизировал вещи и существ. То, что он, таким образом, представлял, наглядно конкретизировал, не имело никакого значения, кроме как для него самого. То, что он как мысль ставит на место наблюдаемого, уже не имеет дело с ограниченностью человека. Оно таково, как оно мыслится. Ибо мысль определяет сама себя и открывает себя в самосознающем "я" в соответствие со своим собственным характером. Она ни в коем случае не позволяет самосознающему "я" определять свой характер.
В этом мировоззрении живёт ощущение эволюции мыслительной жизни с начала её философского расцвета в рамках древнегреческой духовной жизни. Мыслительное переживание дало самосознающему "я" силу мощно осознать себя в своем собственном существе. В современности эта сила мысли может быть пережита в душе как импульс, охваченный в самосознающем "я" и дающий последнему сознание того, что он - самосзнающее "я" - не просто внешний наблюдатель вещи, но оно на сущностном уровне живёт с действительностью вещи. В самой мысли душа может почувствовать, что в ней осуществляется истинное, на самоё себя поставленное, самодостаточное бытие. Когда душа чувствует себя сотканной с этими мыслями как со своим жизненным содержанием, которое дышит действительным, она может снова ощутить несущую силу мысли как ощущала она это в древнегреческой философии. В той философии, которая расценивала мысль как восприятие. Мировоззрение Когена и родственных мыслителей не может расценивать мысль в качестве восприятия в смысле древнегреческой философии; зато оно переживает внутреннюю сотканность "я" с работающим посредством этого "я" мыслительным миром так, что с этим переживанием одновременно ощущается переживание действительности. Связь с древнегреческой философией акцентируется рассматриваемыми мыслителями. Коген трактует это так: "Следовало бы остаться на той позиции, которую об идентичности мышления и бытия выковал Парменид". Другой знаток этого мировоззрения, Вальтер Кинкель, убеждён в том, что "лишь мышление может познать бытие" "ибо оба, мышление и бытие являются, в сущности, одним и тем же. Благодаря этому учению Парменид по праву становится создателем научного идеализма" (см. Кинкель "Идеализм и реализм" стр. 13) Однако изложенное этими мыслителями наглядно показывает, что их слова преподносятся в такой форме, которой в качестве предпосылки предшествовало многовековое действо мыслительной жизни в философской эволюции души со времен древнего гречества. Несмотря на то, что исходный пункт эти мыслители берут у Канта, а их предпосылкой может быть вера в то, что мысль живёт лишь в душе, вне истинной действительности, в них всё же пробивается несущая сила мысли. Она переступает в них ограничения Канта и у мыслителей, предавшихся рассмотрению своей природы, вызывает убеждение, что сама мысль есть действительность и ведёт душу к действительности, если душа правильно работает с мыслью и ищет в ней путь во внешний мир. - Итак, в этом философском образе мыслей, мысль является тесно, внутренне связанной с рассмотрением мира самосознающего "я". Как становление достоверности того, что мысль может сообщить "я", является основной импульс этого образа мыслей. У тех, кто исповедует этот образ мыслей, мы читаем о воззрениях, таких как следующее: "Лишь само мышлении может произвести то, что можно считать бытием". "Бытие - есть бытие мышления". (Коген) - Возникает вопрос: может ли мыслительное переживание в смысле этих философов ожидать от разрабатываемой в самосознающем "я" мысли, того же самого, что ожидали от неё древнегреческие философы, поскольку она доставлялась им как восприятие? Полагая, что мысль есть восприятие, можно считать, что есть истинный мир, откровением которого является мысль. И когда душа чувствует себя связанной с воспринятой мыслью, она может мыслить себя принадлежащей тому, чем является в мире мысль, неуничтожимая мысль; с противной стороны чувственному восприятию раскрываются лишь те существа, которые могут быть уничтожены. То, что от человеческого существа может быть воспринято посредством органов чувств, следует считать преходящим, временным, но то, что изживается в человеческой душе как мысль, позволяет рассматривать душу в качестве члена духовного, воистину действительного бытия. С помощью такого воззрения душа может представить себе свою принадлежность к поистине действительному миру. Но новое мировоззрение сможет сделать это лишь тогда, если будет в состоянии показать, что мыслительное переживание ведёт не только к познанию истинной реальности, но что он, к тому же развивает силу, чтобы действительно вырвать душу из чувственного бытия и поставить её в истинную действительность. Сомнения, высказываемые по этому поводу, не могут быть устранены посредством прозрения действительности мысли, если последняя не воспринимается, а вырабатывается душой. Ибо откуда приходит уверенность в том, что наработанное душой в чувственном бытии придаст ей действительную значимость в том мире, который для органов чувств не воспринимаем? Ведь может быть так, что посредством выработанных мыслей, душа, постигая действительность, найдёт, что она сама как действительное существо не коренится в этой действительности. Это мировоззрение тоже ведёт лишь к тому, чтобы указать на духовную жизнь; но оно не может отрицать, что, ради объективности, в конце для разрешения философской загадки требуются душевные переживания, для которых это мировоззрение оснований не предоставляет. Оно может сделать своим убеждением сущностный характер мысли, но не может посредством мысли дать гарантию сущностного характера души.
* * *
Как мировоззренческие стремления могут быть связаны с кругом самосознающего "я", без познания возможностей найти из этого круга дорогу наружу, туда, где это "я" могло бы связать своё бытие с мировым бытием - показал философский склад мыслей, который разработали А .фон Лекрей, Вильгельм Шуппе, Иоганн Ремке (1848-1930), Шуберт-Золдерн (1852-?) и другие. Их философии хотя и обнаруживают различие, но наиболее характерно в них то, что они первым делом направляют взор на то, как должно открываться в области сознания человека все то, что человек может причислить к окружающему миру. На их почве неприемлема мысль о том, чтобы относительно мировой области только предполагать что-либо, если при этом предположении душа с её представлениями захотела бы выйти за пределы сознания. Поскольку "я" всё познанное им должно охватить в своём сознание, удерживать в своём сознании, постольку данному воззрению и весь мир представляется стоящим в границах этого сознания. Вопрос души: как я, обладая моим сознанием, поставлена в мир, независимый от моего сознания - для этого мировоззрения невозможен. С точки зрения этого мировоззрения человек должен замкнуться, отказаться ото всех вопросов, лежащих в указанном направлении. Он должен был бы не обращать внимания на тот факт, что в самой сфере сознательной душевной жизни лежит настоятельная потребность заглянуть за это сферу, подобно тому, как при чтении текста смысл его ищется не в том, что видят на бумаге, но в том, что выражает написанное. Как при чтении речь не может идти о том, чтобы изучать формы букв, ибо это несущественно для того, что сообщается посредством текста, так для взгляда на истинную действительность может быть несущественным, что внутри "я" всё познаваемое носит характер сознания.
Как противоположный полюс к этим философским мнениям стоят в новой мировоззренческой эволюции взгляды Карла дю Преля. Он принадлежит к тем мыслителям, которые глубоко почувствовали недостаточность того взгляда, который у многих людей, усвоивших естественнонаучный образ мыслей, считается единственным способом объяснения мира. Прель указывает на то, как этот образ мыслей в случае объяснения мира неосознанно грешит против своих собственных положений. Должно ли естествознание на основе своих достижений приоткрыть то "что мы вообще не воспринимаем объективные процессы природы, а всего лишь их воздействия на нас; не колебания эфира, но свет, не колебания воздуха, но звуки. Мы, следовательно имеем субъективную, ложную картину мира; однако она не наносит ущерба нашей практической ориентации, поскольку эти ложные искажения не носят индивидуального характера и протекают в закономерной постоянной форме". "Материализм как и само естествознание указали на то, что мир располагается над нашими органами чувств: материализм подрывает свой собственный фундамент, рубит сук, на котором сидит. В качестве философии, однако, он еще удерживается наверху. Материализм не имеет никакого права называть себя мировоззрением… Он оправдан всего лишь как ветвь знания, но к этому существует и мир - объект его изучения - мир чистой видимости; желать построить на этом мировоззрение есть явное противоречие. Действительный мир является совершенно иным качественно и количественно, нежели тот, который известен материализму, а предметом философии может быть только действительный мир". (см. дю Прель, "Загадки человека" стр. 17). Такие упреки должен вызывать материалистически окрашенный образ мыслей. Его слабость заметили многие новые мыслители, стоящие на точке зрения Преля. Они рассматриваются здесь как представители мировоззренч5ского течения, обретающего цену. Для них характерно, как они хотят вникнуть в область действительного мира. В манере такого проникновения всё ещё продолжает действовать по инерции естественнонаучный образ мыслей, хотя с этим образом мыслей ожесточенно борются. Естествознание исходит из того, что доступно чувственному сознанию. Оно само вынуждено указывать на сверхчувственное. Ибо чувственно-воспринимаемым является только свет, а не колебания эфира. Эти последние, следовательно, принадлежат - по меньшей мере - к вне-чувственной области. Но вправе ли естествознание говорить о чём-то вне-чувственном? Ведь оно хочет исследовать лишь в области чувственно-воспринимаемого. И вообще имеет ли право заявлять о сверхчувственном тот, кто ограничил область своих исследований тем, что отображается сознанием, связанным с органами чувств, с телом? Дю Прель хочет предоставить право исследования в сверхчувственном лишь тем, кто не ищет человеческую душу в её сущности в области чувственно-воспринимаемого. Главную причину в этом отношении он видит в том, что обнаруживаются также такие проявления души, которые доказывают, что бытие души осуществляется не только тогда, когда она связана с телом. Благодаря телу душа изживает себя в чувственном сознании. В явлениях гипнотизма, суггестии, сомнамбулизма обнаруживается, однако, что душа проявляет активность, действует, когда чувственное сознание выключено. Объём душевной жизни расширяется по мере расширения объёма сознания. Тем самым взгляд дю Преля становится противоположным полюсом по отношению к тем выше характеризованным философам сознания, которые полагали, что в объёме осознанного дан объём того, о чём человек может философствовать. Для дю Преля сущность душевного начала надо искать вне круга этого сознания. Если человек, - в смысле дю Преля, - наблюдает душу тогда, когда она оказывается деятельной, не будучи на обычном чувственном пути, он получает доказательство того, что она имеет сверхчувственную природу. К путям, на которых это может произойти принадлежит - по мнению дю Преля и воззрениям многих других - помимо наблюдения приведенных выше "анормальных" проявлений души, относится также и спиритизм. Нет необходимости особо рассматривать мнение дю Преля в этой области. Ибо то, в чём лежит основной нерв его воззрения, обнаруживается уже при взгляде на его позицию по отношению к гипнозу, суггестии и сомнамбулизму. Кто хочет описывать духовную сущность человеческой души, не должен довольствоваться тем, чтобы показать, как в познании эта душа указывает на сверхчувственный мир. Ибо ему на это мог бы возразить - как это уже было упомянуто здесь - окрепший естественнонаучный образ мыслей, возразить так: знание души о сверхчувственном мире ещё не дают право считать эту душу в соответствие с её существом стоящей в сверхчувственной области. Вполне может быть и так, что познание, направленное в сверхчувственное зависело бы лишь от деятельности тела и. таким образом, имело бы значение лишь для связанной с телом души. В этом отношении дю Прель чувствует необходимость показать, как душа познает сверхчувственное не только будучи в теле, но и переживает сверхчувственное вне тела. С помощью такого взгляда он вооружается против упрека, который с точки зрения естественнонаучного образа мыслей может быть сделан против взглядов Ойкена, Дильтея, Когена, Кинкельса и других защитников познания духовного мира. Иначе обстоит дело с сомнениями, которые должны быть воздвигнуты против его собственного пути. Сколь верно то, что душа может найти путь в сверхчувственное только тогда, если она в состоянии изложить, как она сама действует вне чувственно-воспринимаемого, столь мало надёжно выхождение души из чувственно-воспринимаемого посредством явлений гипноза, сомнамбулизма, суггестии, как и всех прочих процессов, приведенных дю Прелем. В отношении всех этих явлений следует сказать, что философ, пытающийся их объяснить, делает это, тем не менее, средствами своего обычного сознания. Если это сознание не может служить для действительного объяснения мира, то как могут его объяснения быть компетентными для явлений, которые - в смысле этого сознания - находятся сверх тех (мировых) явлений? Своеобразно у дю Преля то, что он направляет взгляд на особенные факты, которые указывают на сверхчувственное, однако он желает оставаться целиком на почве естественнонаучного образа мыслей, когда эти факты объясняет. Но разве душа не должна вступить в сверхчувственное и в самой манере своего объяснения, если она хочет говорить о сверхчувственном? Дю Прель смотрит на сверхчувственное; но как наблюдатель он остается в чувственном. Если бы он этого не хотел, он должен был бы посчитать, то лишь находящийся под гипнозом человек может при гипнозе сказать что-то верное о своем переживании; лишь то, что познано о сверхчувственном в состоянии сомнамбулизма, следовало бы принимать к сведению, и что нельзя ценить того, что думает об явлениях данного рода тот, кто сам не находится под гипнозом и не является сомнамбулой. Однако такая последовательность приводит к нонсенсу. Если говорят о перенесении души из чувственного бытия в инобытие, то надо и саму науку, применяемую здесь, им5ть в той же области инобытия. Длю Прель указывает на путь, который должен быть пройден, чтобы достичь сверхчувственного. Но он оставляет открытым вопрос о верных средствах, которые следует применять на этом пути.
* * *
В этом изложении описан прогресс в собственно философской работе над мировыми загадками. Поэтому надо было отказаться от описания усилий таких мыслителей как Рихард Вагнер, Лев Толстой и других; рассмотрение этих усилий станет тем значительнее, если речь пойдёт о том, чтобы исследовать течения, которые из философии ведут ко всеобщей духовной культуре.
ЭСКИЗНЫЙ ОБЗОР АНТРОПОСОФИИ
Тот, кто рассматривает путь формирования философских мировоззрений вплоть до настоящего времени, может обнаружить в поисках и устремлениях отдельных мыслящих личностей подспудные течения, которые не пробиваются в их сознание, но живут на уровне инстинкта. В этих течениях задействованы силы, часто задающие направление и форму идеям мыслителей: однако испытующий духовный взор этих мыслителей направляться непосредственно на эти силы не хочет. Как движимое скрытыми властями, на которые мыслители не хотят обращать внимание и перед которыми они в страхе отступают, так представляется порой то, что излагают эти мыслители. Такие власти живут в мыслительных мирах Дильтея, Ойкена и Когена. Декларируемое в этих мыслительных мирах, является выражением познавательных сил, которые овладевают философами на бессознательном уровне, однако в их идейных построениях никакого раскрытия не находят.
Надежность, достоверность познания - вот то, чего пытаются достичь во многих идейных построениях. Направление, по которому следуют, в большей или меньшей степени, принимают за свою исходный пункт представления Канта. При формировании мыслей осознанно или неосознанно руководствуются естественнонаучным образом мыслей. Но многие предчувствуют, что искать источник, из которого черпаются познания для разъяснения мира, находящегося вне души, следует в "самосознающей душе". И почти всеми овладевает вопрос: как самосознающая душа приходит к тому, чтобы переживаемое ею в себе считать откровением истинной действительности? Повседневный чувственный мир стал "иллюзией", поскольку в ходе философской эволюции самосознающее "я" находило, что оно со своими внутренними переживаниями все более изолируется в самом себе. Дошло до того, что даже восприятия органов чувств рассматривают как только внутренние переживания, которые в самих себе силу не проявляют никакой силы, которая могла бы удостоверить их бытие и наличие в действительном. Чувствуется, как много зависит от того, чтобы в самосознающем "я" найти точку опоры для познания. Однако при инициированных таким чувством исследованиях, приходят к воззрениям, не дающим средств, чтобы вместе с этим "я" окунуться в мир, бытие которого могло бы быть показано удовлетворительным образом.
Кто ищет объяснения этого фактического состояния, может отыскать это объяснение, рассматривая то, какое положение в этой действительности занимает душевное существо, будучи по ходу философской эволюции высвобождено из внешней мировой действительности? Душа чувствует себя в окружении мира, который открывается ей, прежде всего посредством органов чувств. Но душа обратила внимание также на свою самостоятельную деятельность, на свое внутреннее творческое переживание. Она ощущает как неотвратимую истину то, что ни света, ни цвет не могут открыться без воспринимающего свет и цвет глаза. Так, уже в деятельности глаза она чувствует творческое начало. Но если глаз в процессе самостоятельного творения производит цвет, - так следовало бы думать в смысле этой философии, - то где найду я то, что существует само по себе, что обретает свое существование не только посредством моей собственной творческой силы? Если уж откровения органов чувств являются всего лишь проявлением собственной силы души, то не должно ли в еще большей степени быть таковым мышление, которое хочет получать представления об истинной действительности? Не суждено ли этому мышлению производить образы, коренящиеся в характере душевной жизни, но не таящие в себе ничего, что давало бы какую-то уверенность проникнуть к источникам бытия? Такие вопросы в новой философской эволюции прорываются всюду.
Пока верят, что в мире, открывающемся посредством органов чувств, есть будто бы нечто законченное, в самом себе покоящееся, то, что следует рассматривать, чтобы познать его внутреннюю сущность, до тех пор не смогут выйти из хаоса, возникающую из-за этих вопросов. Душа человека может осуществлять свои познания лишь своим самостоятельным творчеством. Это убеждение, которое правомерно вытекает из пред-посылок, описанных в этой книге в главе "Мир как иллюзия" и при изложении мыслей Гамерлинга. Однако затем, исповедуя это убеждение, нельзя обойти рифы на пути познания до тех пор, пока представляют, что чувственно-воспринимаемый мир содержит истинные основания своего бытия в себе; что надо было бы посредством того, что мы сами создаем в душе, как-то отобразить нечто, лежащее вне души.
Обойти эти рифы сможет только такое познание, которое постигает духовным взором, что все, воспринимаемое с помощью внешних чувств, предстает благодаря своей собственной сущности не как готовая, заключенная в самой себе действительность, а как незаконченная, как в известном смысле половинчатая действительность.
Как только предполагают, что в восприятиях чувственного мира будто бы есть полная действительность, никогда не придут к тому, чтобы найти ответ на вопрос: что добавили к этой действительности самостоятельно сотворенные порождения души в процессе познания? Тогда следует оставаться на мнении Канта: человек должен рассматривать свои познания как продукт своей собственной душевной организации, а не как откровение истинной действительности. Если действительность в ее собственном виде располагается вне души, то душа не может произвести то, что соответствует этой действительности, но произведет лишь нечто, что вытекает из её собственной организации.
Все становится иным, как скоро узнают, что организация человеческой души отдаляется от действительности не при посредстве того, что она самостоятельно творит в процессе познания, но потому, что она в жизни, развертывающейся до всякого познания, создает себе иллюзорный мир, не являющийся действительным. Душа человека занимает в мире такое положение, что она ради её собственного существа делает вещи иными, нежели они есть в действительности. В известном смысле справедливо то, что полагает Гамерлинг: "Определенные раздражения производят запах в нашем органе обоняния. А значит, роза не пахнет, когда ее никто не нюхает... Если тебе, дорогой читатель, это не очевидно, если твой рассудок встает перед этим фактом на дыбы, как пугливый конь, не читай ни строки дальше; оставь эту и все другие книги, в которых речь идёт о философских предметах, непрочитанными; ибо у тебя отсутствует необходимая для этого способность непредвзято воспринимать факт и удерживать его в мыслях".(см. стр. 171 данного тома). Как является чувственный мир человеку, непосредственно предстоящему перед ним, несомненно, зависит от существа его души. Но не следует ли из этого, что именно он посредством своей души вызывает это явление мира? Непредвзятое наблюдение показывает, что иллюзорный характер чувственного внешнего мира проистекает от того, что человек, будучи поставлен непосредственно перед вещами, заглушает в себе то, что принадлежит им на деле. Творчески раскрывая затем свою внутреннюю жизнь, он позволяет из глубины его души подни-маться тому, что таится в этих глубинах; и тогда он добавляет к тому, что он увидел посредством органов чувств, нечто дальнейшее, что при познании достраивает действительное наполовину до полной действительности. Существо души таково, что при первом взгляде на вещи она гасит нечто, принадлежащее к их действительности. Поэтому вещи перед органами чувств являются не такими, каковы они в действительности, а такими, какой вид придаёт им душа. Но их видимость (или их чистое явление) основана на том, что душа сначала отнимает у них то, что им принадлежит. Не оставаясь при первом взгляде на вещи, человек при познании добавляет к ним то, что впервые открывает их полную действительность. Не посредством познания душа добавляет к вещам нечто такое, что по отношению к ним было бы недействительным элементом, но перед познанием она отнимала у вещей то, что принадлежит к их истинной действительности. Задача философии состоит в том, чтобы увидеть, что открывающийся человеку мир является "иллюзией" перед тем как он, познавая, выступает навстречу ему; однако путь познания указывает направление к полной действительности. То, что человек творчески производит при познании, предстает как внутреннее откровение души лишь потому, что человек, прежде познавательного переживания должен отгородиться от того, что приходит из сущности вещей. Он ещё не может увидеть её в вещах, когда вначале лишь противостоит им. В познании он самостоятельно раскрывает себе то, что было скрыто вначале. Если человек считает действительностью то, что он воспринял сначала, тогда произведенное им в познании кажется ему чем-то, добавленным к этой действительности. Но зная, что он должен искать в вещах то, что только кажется ему произведенным из него самого, то, что он сперва удерживал в стороне, рассматривая вещи, тогда он почувствует, что познание является процессом действительности, посредством которого душа шаг за шагом срастается с бытием мира. Благодаря познанию душа расширяет свое внутреннее, изолированное переживание до переживания мира.
В маленьком сочинении "Истина и наука", которое появилось в 1892 году, автор этой книги сделал слабую (schwachen) попытку философски обосновать то, что в предварительном виде изложено здесь. Там он говорил о перспективах, которые должна открыть для себя философия современности, если она хочет обойти те рифы, которые естественным образом возникли на пути ее новейшей эволюции. В этом сочинении философская точка зрения выражена такими словами: "Не первый облик, в котором действительность подступает к "я", является её истинным, но последний, который "я" делает из того же самого. Тот первый облик вообще не имеет значения для объективного мира, и имеет таковое лишь как материал для процесса познания. Таким образом, субъективной является не та картина мира, которую дает теория, но в значительно большей мере та, с которой "я" имеет дело первоначально". Дальнейшим развитием этой точки зрения является работа автора "Философия свободы" (1894). Он пытался тогда создать философскую основу для воззрения, которое в названной книге на стр.86 описывается следующим образом: "Не в предметах причина того, что они даются нам сначала без соответствующих понятий, а в нашей духовной организации. Все наше существо в целом функционирует таким образом, что из каждой вещи действительности к нему с двух сторон притекают имеющие для него значение элементы: со стороны восприятия и со стороны мышления. Природе вещей нет дела до того, как я орга-низован для их постижения. Разрыв между восприятием и мышлением существует лишь в тот момент, когда я, наблюдающий, предстаю перед вещами" (стр.75 глава "Познание мира", русск. изд. "Духовное знание", 1994 Калуга). И далее: "Восприятие есть та часть действительности, которая дается объективно, понятие - та ее часть, которая дается субъективно (посредством интуиции). Наша духовная организация разрывает действительность на оба эти фактора. Один фактор является восприятию, другой - интуиции. Только связь их обоих, восприятие, закономерно включённое в состав Универсума, составляет полную действительность. Когда мы рассматриваем чистое восприятие само по себе, мы имеем не действительность, а бессвязный хаос; когда мы рассматриваем саму по себе закономерность восприятий, мы имеем дело только с абстрактными понятиями. Не абстрактное понятие содержит действительность, но мыслящее наблюдение, которое не рассматривает ни понятие ни восприятие как таковое односторонне, а в их связи"(там же стр.215, глава "Выводы монизма").
Кто готов усвоить указанные здесь точки зрения, получает возможность мыслить, что его душевная жизнь в самосознающем "я" соединена с плодотворной действительностью. К этому воззрению философская эволюция стремится со времен древнегреческой эпохи; его первые, ясно узнаваемые следы обнаруживаются в мировоззрении Гёте. Так узнают о том, что это самосознающее "я" переживает себя не изолированно в себе и вне объективного мира; его эмансипация от этого мира есть в большей степени лишь явление сознания, которое может быть преодолено. Преодолено пониманием того, что на определенной ступени эволюции человек должен был овладеть преходящим обликом "я" благодаря тому, что силы, соединяющие душу с миром, были вытеснены из сознания. Если бы эти силы не прекращаясь действовали в сфере сознания, то человек никогда не пришел бы к энергичному, в себе покоящемуся самосознанию. Он бы не смог пережить себя как самосознающее "я". Итак развитие самосознания зависит именно от того, что душа получила возможность воспринимать мир без той части действительности, которую самосознающее "я" заглушает на определённой стадии, той, которая предшествует ее познанию. Итак, мировые силы этого члена действительности работают в существе души так, что они скрываются, чтобы дать вспыхнуть исполненному сил самосознающему "я". Это последнее должно понять, что его самопознание обязано тому же факту, который распростёр над познанием мира некий покров. Тем самым с необходимостью обусловлено то, что все приносящее душе сильное, энергичное переживание "я", оставляет нераскрытыми ту глубинные основы, в которых это "я" коренится. Но тогда все познание обычного сознания таково, что оно вызывает полноту сил самосознающего "я". Человек ощущает себя как самосознающее "я" благодаря тому, что воспринимает внешний мир своими органами чувств, что он пере-живает себя вне этого внешнего мира, и что он находится в таком отношении к внешнему миру, которое на определенной ступени научного исследования являет "мир как иллюзию". Не будь всё это так, самосознающее "я" не смогло бы проявиться. Итак, стремясь к тому, чтобы при познании лишь скопировать то, что уже наблюдалось до познания, не достигают никакого истинного переживания в полной действительности, а лишь отображение "половинной действительности".
Допустив, что дело обстоит так, ответ на загадочные вопросы философии нельзя искать в переживаниях души, которые являются обычному сознанию. Это сознание призвано к тому, чтобы усиливать самосознающее "я"; оно должно, стремясь к этой цели, вуалировать перспективу, раскрывающую связи "я" с объективным миром, то есть, оно не может показывать, как душа связана с действительным миром. Тем самым указана причина, почему познавательные стремления, желающие идти вперед с помощью сред-ств естественнонаучного образа мыслей или подобных ему философских представлений, постоянно должны достигать пункта, в котором познавательное стремление приходит в упадок, распадается. В этой книге распад такого рода пришлось отметить у многих мыслителей нового времени. Ибо по существу все научные устрем-ления нового времени работают с такими средствами научного мышления, которые служат отторжению самосознающего "я" от истинной действительности. Мощь и величие новой науки, особенно естественной науки, покоится на безоговорочном применении этих мыслительных средств.
Отдальные философы, как Дильтей, Ойкен и другие, направляют философское рассмотрение на самонаблюдение души. Но то, что они наблюдают, является теми переживаниями души, которые образуют основу самосознающего "я". Поэтому они не проникают к тем мировым источникам, в которых переживания души вырываются наружу из истинной действительности. Эти источники не могут находиться там, где душа с обычным сознанием прежде всего противостоит в наблюдении себе самой. Если душа хочет прийти к этим источникам, она должна пробиться за пределы этого обычного сознания. Она должна пережить в себе нечто такое, чего это сознание дать ей не в состоянии. Подобное переживание обычному познанию кажется сначала полнейшим абсурдом. Душа должна в каком-то элементе почувствовать себя знающей, но не вносить свое сознание в этот элемент. Необходимо перепрыгнуть пределы этого сознания и в то же время все-таки быть сознающим! - Но, тем не менее, мы или будем и дальше в философских стремлениях приходить к невоз-можному, либо мы должны будем открыть, что указанный "полный абсурд" лишь кажется таковым и что именно он указывает путь, на котором следует искать помощи для загадочных вопросов фило-софии.
Следует признать, что путь "во внутренний мир души" должен быть совсем иным, нежели тот, который избирают многие мировоззрения нового времени. Пока человек принимает душевные переживания так, как они предлагаются обычному сознанию, до тех пор он не входит в глубины души. Он останавливается на том, что эти глубины выгоняют наружу. Такое положение занимает мировоззрение Ойкена. - Надо стремиться проникнуть под поверхность души. Но этого человеку не удается с помощью обычных средств душевного переживания. Их сила состоит именно в том, что они удерживают душу в этом обычном сознании. Средства, чтобы глубже проникнуть в душу будут предоставлены тогда, если человек направит взор на то, что в обычном сознании, хотя и работает совместно, но в своей работе совсем не вступает в это сознание. Когда человек мыслит, его сознание направлено на мысли. Посредством мыслей он хочет что-то представить; он хочет в обычном смысле (слова) думать правильно. Но человек может направить своё внимание и на другое. Можно обратить духовный взор на деятельность мышления как таковую. Можно, например, выдвинуть в центр сознания мысль, не относящуюся ни к чему внешнему, мыслимую как некий символ, в котором не обращают никакого внимания, отражает ли он нечто внешнее. Можно упорно пребывать в удержании подобной мысли. В время такого пребывания человек может полностью вживаться только лишь во внутреннее деяние души. При этом речь идет не о том, чтобы жить в мыслях, но о том, чтобы пережить мыслительную деятельность. Таким способом душа отрывается от того, что она осуществляет в своем обычном мышлении. Если достаточно долго продолжать такое внутреннее упражнение, душа со временем познает, как она была вовлечена в переживания, которые отделяют ее от тех мышления и представления, которые связаны с телесными органами. Подобное можно проделать с чувствами и желаниями души, и даже с ощущениями, восприятиями внешних предметов. Человек достигнет чего-то на этом пути лишь тогда, если не отступит в страхе перед тем, чтобы признаться себе, что подступиться к самопознанию души нельзя, если просто заглядывать в тот внутренний мир, который всегда существует; надо заглянуть гораздо глубже в то, что может быть открыто лишь посредством внутренней работы души. Посредством душевной работы, посредством упражнению, достигают концентрации на внутренней деятельности мышления, чувствования и воления, так что эти переживания в некоторой степени себя духовно "уплотняют" в себе самих. При этом "уплотнении" они раскрывают затем свою внутреннюю сущность, которая обычным сознанием не воспринимается. Посредством такой душевной работы человек обнаруживает, что для осуществления обыкновенного сознания душевные силы должны настолько "истончиться", что они в этом истончении становятся невоспринимаемыми. Предполагаемая здесь душевная работа, состоит в неограниченном усилении душевных способностей, о которых знает и обыкновенное сознание, однако последнее не использует их в такой усиленной форме. Эти способности - внимательность и исполненная любви отдача тому, что переживает душа. Для достижения указанного, надо усилить эти способности до такой степени, чтобы они действовали как совершенно новые душевные силы.
Двигаясь так вперед, человек охватывает в душе действительное переживание, чья собственная сущность раскрывается как такая, которая является независимой от условий телесной организации. Это и есть духовная жизнь, которую на понятийном уровне нельзя смешивать с тем, что Дильтей и Ойкен называют духовным миром. Ибо этот духовный мир переживается человеком лишь тогда, когда он связан с его телесными органами. Подразумеваемая здесь духовная жизнь, для души, привязанной к телу, не существует.
Первым опытом достигнутой новой духовной жизни является истинное познание обыкновенной душевной жизни. На самом деле эта жизнь тоже производится не посредством тела, но протекает вне тела. Если я вижу цвет, если я слышу звук, то я переживаю цвет, звук не как переживание тела; но я как самосознающее "я" связан с цветом и звуком помимо тела. Задача тела - действовать так, что его можно сравнить с зеркалом. Если я в обыкновенном сознании связан с цветом только душевно, то я ничего не могу воспринять от цвета из-за устройства этого сознания. Так же как я не могу увидеть свое лицо, если буду смотреть перед собой. Но если же передо мной стоит зеркало, то я воспринимаю лицо как тело. Без зеркала перед собой, я есть тело, я переживаю себя как таковое. Стоя перед зеркалом, я воспринимаю тело как зеркальное отражение. Так же происходит и с восприятием чувств, хотя, само собой разумеется, надо принять к сведению недостаточность всякого сравнения. Я живу с цветом вне моего тела; посредством деятельности тела (глаза, нервной системы) цвет становится для меня осознанным восприятием. Не создателем восприятия, душевного вообще является человеческое тело, но инструментом для отражения того, что душевно-духовно разыгрывается вне тела.
Это воззрение ставит учение о познании на перспективную основу. "Представления об "я" гносеологически достигается, не тогда, когда представляют, что оно ("я") находится внутри телесной организации, где впечатления ему даются "извне", но тогда, когда полагают это "я" в саму закономерность вещей, а в телесной организации видят всего лишь некое подобие зеркала. Это зеркало посредством органической телесной деятельности отражает этому "я" вне тела происходящее тканье этого "я" в истинном существе мира". (Этими словами автор этой книги пытался охарактеризовать представляющиеся ему перспективы гносеологии в подготовленном в 1911 году для философского конгресса в Болонье докладе: "Психологические основы и гносеологическая позиция духовной науки").
Во время человеческого сна отражающее взаимодействие между телом и душой прерывается; "я" живет только в душевно-духовном тканье. Но для обыкновенного сознания не существует переживания души, если тело не отражает переживания. Поэтому сон протекает бессознательно. Посредством указанного и подобных душевных упражнений способствуют тому, что душа развивает иное, нежели обычное сознание. Она благодаря этому приобретает способность не только переживать чисто душевно-духовно, но настолько усиливать переживаемое в себе, что последнее в определенном смысле отражается в самом себе без помощи тела и приходит к духовному восприятию. В подобном переживании душа только и может познать саму себя в подлинном смысле, может сознательно пережить себя в своей сущности. Как воспоминание высвобождает от чар из глубины души прошлые факты физических переживаний, так перед душой, подготовленной характеризованными мероприятиями, поднимаются из ее внутренних глубин сущностные переживания, которые принадлежат не к миру чувственного бытия, но к миру, где пребывает основное существо души. Верующий в современный образ мыслей, этот, обозначенный здесь мир, скорее всего, отнесет к области ошибочных воспоминаний, иллюзий, галлюцинаций, самовнушений и тому подобному. Ему можно только возразить, что серьезное душевное стремление, работающее в указанном направлении, находит во внутренней духовной конституции, которую оно воспитывает, столь же надежные средства для различения иллюзии и духовной действительности, какие в обыкновенной жизни при здоровой душевной конституции позволяют отличать фантастические образования от восприятия. Поиски теоретического доказательства того, что охарактеризованный духовный мир действителен, были бы тщетны; но таких доказательств нет и для действительности мира восприятий. Как здесь судить, решает само переживание в том и другом случае.
От шага, который в соответствии с данным описанием единственно способен разрешить загадки философии, многих удерживает вера, что, сделав его, они попадут в область туманной мистики. Кто заранее не склонен подвигнуть душу к подобной туманной мистике, тот на описанном пути откроет себе доступ в мир душевного переживания, которое в себе столь же кристально ясно, как и построение математических идей. Если у человека есть склонность искать духовное в "темной неизвестности", в том, "что нельзя объяснить", ему не удастся разобраться в описываемом пути ни в качестве знатока, ни в качестве противника.
Вполне понятно и то, что лица, считающие образ мыслей, которому для познания чувственного мира служит естественная наука, единственным истинно научным путем, сильно воспротивятся указанному здесь. Но тот, кто откажется от такой односторонности, сможет узнать, что настоящий естественнонаучный строй мыслей дает основу для принятия описанного здесь. Идеи, описанные в этой книге - идеи нового естественнонаучного образа мыслей - могут стать лучшим мыслительным упражнением, которому может предаться душа и на которых она может сосредоточиваться, чтобы в своём внутреннем переживании освободить себя от привязанности к телу. Кто применяет эти естественнонаучные идеи, поступая с ними так, как это описано в данном изложении, найдет, что мысли, которые первоначально казались предназначенными только для того, чтобы отображать природные процессы, при внутреннем духовном упражнении действительно освобождают душу от тела, и что поэтому подразумеваемая здесь духовная наука должна образовать своего рода продолжение естественнонаучного способа мышления, правильно переживаемого в душе.
Человек переживает и познаёт истинную сущность человеческой души, если ищет её на охарактеризованном пути. Эволюция философских мировоззрений привела в древнегреческую эпоху к рождению мысли в поле этих мировоззрений. Поступательное движение этой эволюции привело к тому, чтобы посредством мыслительного переживания направить философское наблюдение на самосознающее "я". Гёте в соответствие с самосознающим "я" стремился к таким переживаниям, которые, будучи переработаны человеческой душой, одновременно ставят эту душу в область той действительности, которая недоступна для органов чувств. Когда он стремится к такой идее растения, которая не может быть созерцаема посредством органов чувств, но которая, тем не менее содержит в себе сверхчувственное существо всех растений, причём так, что исходя из него, можно мысленно создавать жизнеспособные растения, - с подобной духовной установкой Гёте уже стоит на означенной здесь почве. Впоследствии Гегель даже увидел в переживании мыслей человеческой душой "пребывание в истинной сущности мира"; для него мир истинных мыслей стал внутренней сущностью мира. Непредвзятое исследование философской эволюции показывает, что хотя мыслительное переживание и было элементом, посредством которого самосознающее "я" должно было опереться на самое себя, но далее нужно идти через жизнь в мыслях к такому душевному переживанию, которое выводит за рамки обыкновенного сознания. Ведь даже мыслительное переживание у Гегеля все еще протекает в сфере этого обыкновенного сознания.
Так в душе открывается вид на действительность, которая недоступна органам чувств. То, что переживается в душе благодаря проникновению в эту действительность, представляется более глубоким существом души. Но каково отношение этого более глубокого существа души к внешнему миру, переживаемому посредством тела? Душа, означенным образом переживающая себя свободной от тела, чувствует себя в некоем душевно-духовном тканье. Вместе с духовным началом она находится вне тела. И она знает, что также и в обычной жизни она находится вне этого тела, которое выполняет лишь роль отражающего аппарата и с помощью которого она воспринимает свои душевно-духовные переживания. Вследствие этого духовное переживание настолько усиливается для неё, что ей открывается новый элемент действительности. Наблюдения над духовным миром в духе Дильтея или Ойкена находят в качестве духовного мира сумму культурных переживаний человечества. С этим миром как единственно доступным пониманию духовным миром мы еще не встаём на почву, которая указывала бы на свое соответствие естественнонаучному образу мыслей . Совокупность мировых существ упорядочивается для естественнонаучного взгляда так, что физический человек в его индивидуальном бытии является как некое обобщение, некое единство, на которое указывают все другие природные процессы и природные существа. Мир культуры - мир, создаваемый посредством этого человека. Сам по себе он не составляет индивидуального единства высшего рода по отношению к индивидуальности человека. Подразумеваемая здесь духовная наука указывает на переживание, которое душа может иметь независимо от тела. И это переживание обнаруживает себя как нечто индивидуальное. Оно выступает как высший человек, который относится к физическому человеку как к своему инструменту. То, что посредством духовного переживания души чувствует себя свободным от физического тела, - есть духовно-душевное единое человеческое существо, которое принадлежит духовному миру так, как тело - физическому. Когда душа переживает это свое духовное существо, она узнает также, что это существо находится в известном отношении к телу. Тело является с одной стороны как нечто отдельное от душевно-духовного существа, примерно так, что можно отважиться на сравнение с раковиной улитки, окружающей улитку и являющейся как бы её слепком, отображением. С другой стороны, духовно-душевное проявляется в теле, как сумма сил в растении, которые, после того как растение разовьется, после того как оно завершит свое развитие посредством листьев и цветка, концентрируются в семени, чтобы образовать задатки для нового растения. Нельзя пережить духовно-душевного человека, одновременно не узнав посредством этого переживания, что в этом человеке содержится нечто, что хочет сформироваться в нового физического человека. В такого, который посредством своего переживания в физическом теле собрал силы, которые не могут быть изжиты в этом, современном физическом теле. Это современное физическое тело дало душе возможность иметь переживания, связанные с внешним миром, которые делают духовно-душевного человека иным, нежели он был, когда он вступал в жизнь в этом физическом теле; ведь это тело некоторым образом слишком определенно сформировано, чтобы духовно-душевный человек смог его преобразовать после испытанных им в нём переживаний. Так в человеке находится духовно-душевное существо, содержащее зачаток нового человека.
Подобные мысли могут быть здесь лишь как намек. То, что они содержат, открывает переспективу для некой духовной науки, которая в своем внутреннем существе построена по образцу естественной науки. Работающий в области такой духовной науки будет поступать как, например, ботаник. Последний следит за растением, как оно пускает корень, раскрывает стебель и листья, развиваются до цветка и плода. В плоде он замечает зародыш новой растительной жизни. Если он видит возникновение растения, он ищет его происхождение в семени, зародыше, который берет свое начало в другом растении. Духовнонаучный исследователь будет следить за тем, как человеческая жизнь, помимо внешней стороны, раскрывает также свое внутреннее существо; во внешних переживаниях он найдёт сходство с отмирающими листьями и цветами; но во внутреннем мире он будет следить за духовно-душевным ядром, которое скрывает задатки для новой человеческой жизни. В человеке, вступающем через рождение в жизнь, он увидит, как в чувственно-воспринимаемый мир снова приходит то, что ушло из него посредством смерти. Он научится наблюдать, как то, что в ходе физической наследственности передается человеку от предков, является лишь материалом, из которого душевно-духовный человек формирует, чтобы привести к физическому бытию то, что в виде задатка подготавливалось в предшествовавшей жизни.
Кое-что в науке о душе, психологии, с точки зрения этого мировоззрения можно будет увидеть в новом свете. О многом можно было бы здесь упомянуть. Но укажем лишь на одно. Надо наблюдать, как преобразуется человеческая душа благодаря переживаниям, которые в известном смысле являются возвращением более ранних переживаний. Если человек прочитал значительную книгу в свои двадцать лет и снова читает ее в свои сорок лет, он переживает её как другой человек. И если непредвзято задать вопрос о причине этого факта, то окажется, что воспринятое, благодаря этой книге, в двадцатилетнем возрасте продолжает жить в нём и становится частью его собственного существа. Человек имеет в собственном духовно-душевном начале ту силу, которая была заложена в книге; эта, вошедшая в него сила считывается в этой книге на сороковом году жизни человека. Так происходит и с жизненным опытом. Последний становится самим человеком. Он живет в его "я". Но видно также, что во время одной жизни это внутреннее укрепление высшего человека должно оставаться на духовно-душевном уровне. Однако обнаруживается также и другое, то, что этот человек стремится стать достаточно сильным, чтобы проявиться во всей полноте в телесности. Достигнуть этого мешает телесная детерминированность в одной жизни. Но во внутреннем мире человека живет в зачаточном виде, тот зародыш, который хочет построить новую человеческую жизнь с тем, что уже достигнуто, как внутри растения живет зародыш нового растения.
К этому можно добавить, что вживание души в независимый от тела духовный мир позволяет истинному духовно-душевному началу вступить в её сознание, подобно тому, как в воспоминании всплывает прошлое. И всё же у этого духовно-душевного начало обнаруживается то, что оно выходит за пределы отдельной жизни. Как то, что я ношу теперь в моем сознании, содержит в себе результаты моих прежних физических переживаний, так прошедшей через указанные упражнения душе, раскрывается всё, пережитое физически, с особым построением тела, сформированным духовно-душевным существом, которое предшествовало этому построению тела. Эта предшествовавшая построению тела жизнь, заявляет о себе как таковая в чисто духовном мире, в котором жила душа, перед тем, как она в новой физической жизни смогла развить заложенные семена прежней физической жизни. Человек закрывается перед вспыхнувшей возможностью того, что силы человеческой души станут способны к развитию, если он противится признать, что душа говорит правду подсказанную ей опытом, когда, благодаря внутренней работе, она действительно достигает того, чтобы внутри сознания, отличающегося от обыкновенного, знать о духовном мире. Такое знание ведет к духовному проникновению в мир, благодаря которому становится очевидно, что истинное существо души, находится позади обыкновенного переживания; что это истинное существо духовно сохраняется при смерти, как семя растения сохраняется физически после отмирания растения. Это ведёт к осознанию, что человеческая душа живет в повторяющихся земных жизнях и что между этими земными жизнями находится чисто духовное бытие.
С такой точки зрения действительность принимает в себя духовный мир. Сами человеческие души и есть те, что переносят достижения одной культурной эпохи в более позднюю. Душа появляется в физической жизни с определенной внутренней конституцией, раскрытие которой воспринимает тот, кто не настолько предвзят, что хочет видеть в этом раскрытии лишь результат физического наследования. То, что Ойкен и Дильтей, изображают в качестве духовного мира, подразумевая под этим культурную жизнь, построено так, что последующее постоянно примыкает к непосредственно предшествующему. Однако в это поступательное движение включаются человеческие души, которые приносят результат своих предшествовавших жизней в форме внутреннего настроя души. Однако они должны с помощью внешнего обучения усвоить то, что развилось в физическом культурном мире, пока они пребывали в чисто духовном бытии.
В историческом описании не может быть дано полное изложение того, на что указывается здесь. Тому, кто ищет подобное, я позволю себе указать на мои сочинения, о подразумеваемой здесь духовной науке. Если она и стремится в по возможности общедоступном виде дать мировоззрение, точки зрения и цели которого здесь эскизно очерчены, то я все же думаю, что за внешним обличием этого изложения можно распознать и то, что это мировоззрение покоится на серьезно устремлённых философских основаниях. Исходя из них, оно устремляется в мир, который может созерцать человеческая душа, если она посредством внутренней работы овладеет наблюдением, свободным от тела.
Преподавателем этого мировоззрения является сама история философии. Её рассмотрение показывает, что ход философской работы стремится к воззрению, которое не может быть достигнуто в рамках обыкновенного сознания. В сочинениях представительных мыслителей в многообразных формах проявляется те попытки, которые со всех сторон предпринимались для исследования самосознающего "я" средствами обычного сознания. Теоретические выкладки на тему, почему эти средства должны приводить к неудовлетворительным результатам, не относится к исто-рическому изложению. И всё же сами исторические факты явно говорят, что обычное сознание, ища повсюду, не может придти к разрешению вопросов, ставить которые оно, тем не менее, должно. Почему обычному и даже привычному научному сознанию недостаёт средств для проработки этих вопросов, должна, с одной стороны, показать эта заключительная глава. С другой стороны, в ней надо изложить то, к чему бессознательно стремятся охарактеризованные мировоззрения. Если эта последняя глава в некотором смысле не относится непосредственно к истории философии, то с другой стороны она кажется оправданной, а именно с той, которая позволяет осветить результаты этой книги. Ведь эти результаты состояли в том, что духовнонаучное мировоззрение востребовано новейшим философским течением, как ответ на поставленные последним вопросы. Чтобы это заметить, надо рассмотреть некоторые характерные пункты этого философского течения. Франц Брентано говорит в своей "Психологии" о том, как это течение отклонилось от того, чтобы заниматься более глубокими загадками душевного начала (см. стр.167 данного тома). В его книге можно прочитать: "Тем временем, кажется, что есть необходимость ограничить область исследования в этом направлении, но, вероятно, это только кажется. Дэвид Юм в свое время со всей решительностью выступил против метафизиков, которые утверждали, что нашли субстанцию, несущую в себе психические состояния. "Что касается меня, - говорит он, - то если я достаточно глубоко вхожу в ту область, которую я называю самим собой, то я всегда натыкаюсь на то или иное особенное восприятие жары или холода, света или тени, любви или ненависти, боли или радости. Никогда, сколь бы часто я ни пытался это сделать, я не могу завладеть самим собой без какого-либо представления, и никогда я не могу открыть что-либо кроме представления. Если же мои представления на некоторое время устраняются, как во время здорового сна, то я в это время ничего не могу почувствовать от себя самого, и можно было бы поистине сказать, что я вообще не существую". (Брентано, "Психология" стр. 20). Юм знает только об одном наблюдении души, которое направляется на душу без внутренней душевной работы. Но подобное наблюдение никак не может проникнуть к сущностному души. Брентано примыкает к тезису Юма и говорит: "Тем не менее, тот же Юм замечает, что совокупные доказательства бессмертия души в таких воззрениях, как его, обладают совершенно такой же силой, как и при противоположном традиционном допущении". При этом необходимо, однако, сказать, что не познание, а лишь вера может быть утверждена словами Юма, если верно его мнение, что в душе ничего нельзя найти, кроме того, что он в ней находит. Что могло бы гарантировать дальнейшее существование того, что Юм считает содержанием души? - Брентано продолжает: "Хотя тот, кто отрицает субстанцию души, само собой разумеется, не может говорить о бессмертии души в собственном смысле слова, это вовсе не значит, что вопрос о бессмертии из-за отрицания субстанционального носителя психических явлений теряет всякий смысл. Это сразу же проясняется, если мы примем во внимание, что в любом случае - с душевной субстанцией или без нее - нельзя отрицать некоего дальнейшего существования нашей психической жизни здесь на Земле. Тому, кто отвергает душевную субстанцию, достаточно допустить, что для продолжения такого существования субстанциональный носитель не нужен. И вопрос, продолжает ли существовать наша психическая жизнь после разрушения нашей телесного проявления не утратит для него своего смысла, как и для других. Очевидной непоследовательностью является то, когда мыслители этого направления на основании названных причин отвергают вопрос о бессмертии также и в этом его существенном значении, которое, конечно, лучше было бы назвать бессмертием жизни, а не бессмертием души". (см. Брентано, "Психология" стр. 211). И все-таки это мнение Брентано нельзя подтвердить, если не стать на точку зрения эскизно рассматриваемого здесь мировоззрения. Где можно найти причины того, что душевные явления продолжают существовать после смерти тела, если хотят оставаться в пределах обыкновенного сознания? Это сознание может длиться лишь столько времени, сколько будет существовать его отражающий аппарат, физическое тело. То, что может существовать дальше без него, нельзя обозначать как субстанцию; это должно быть другое сознание. Это другое сознание можно обнаружить лишь с помощью внутренней работы души, которая освобождает себя от тела. Работа такого рода позволяет узнать, что душа может обладать сознанием также и без посредства тела. Благодаря этой работе душа находит в сверхчувственном созерцании то состояние, в котором она находится, когда складывает с себя тело. Она находит, что в то время как она носит тело, это последнее затемняет её то, иное сознание. С воплощением в физическое тело оно так сильно воздействует на душу, что она не может развить в обычной жизни охарактеризованное здесь иное сознание. Оно обнаруживается, если с успехом выполняются упражнения, описанные в этой главе. Душа должна тогда сознательно подавить силы, которые, исходя из тела, гасят свободное от тела сознание. Такое погашение не может больше иметь места после распадения тела. Итак, описанное иное сознание и есть то, которое сохраняется в следующих друг за другом жизнях души и в чисто духовной жизни между смертью и рождением. С этой точки зрения речь идет не о какой-то туманной субстанции души, но на основе представления, близкого естественнонаучным идеям, показывается, как душа продолжает свое существование потому, что в одной жизни подготавливает в зачаточной, семенной форме следующую жизнь, подобно растительному семени у растения. В настоящей жизни отыскивается причина будущей. Показывается то истинное, что продолжает существовать, когда смерть отторгает тело.
С подразумеваемой здесь духовной наукой мы никогда не вступаем в противоречие с новейшим естественнонаучным образом мыслей. Надо лишь признать, что с помощью этого образа мыслей проникнуть в область духовной жизни невозможно. Зная о факте существования иного сознания, нежели обычное, можно найти, что посредством этого сознания приходят к представлениям о духовном мире, который выявляет закономерную связь этого мира, совершенно подобно той, которая для физического мира выявляется посредством естественнонаучного исследования.
Имеет значение то, чтобы в отношении этой духовной науки были далеки от веры, что она заимствует свои познания у какой-либо древней формы религии. Соблазниться такой верой легко потому, что, например, воззрение о повторяющихся земных жизнях является составной частью известных вероисповеданий. Для современного духовного исследователя не может быть заимствований из подобных вероисповеданий. Он находит, что достижение сознания простирающегося в духовный мир, может стать фактом для души, которая предается описанным здесь мероприятиям. В результате такого сознания он учится познавать, что состояние души в духовном мире соответствует характеризованному. При рассмотрении этого состояние в истории философии - с момента эллинистической вспышки мысли - обнаруживается путь, ведущий философским образом к убеждению, что истинное существо души находят тогда, если обычные душевные переживания рассматривают как некую поверхность, под которую надо спуститься. Мысль доказала, что является воспитателем души. Она привела душу к совершенному одиночеству в самосознающем "я". Но, ведя ее к этому одиночеству, мысль закалила её силы, благодаря чему душа обрела способность настолько углубиться в саму себя, что, стоя на своей подоснове, она одновременно стоит и в глубинной мировой действительности. Ибо с точки зрения охарактеризованного здесь духовнонаучного мировоззрения не предпринимается попытка выйти за пределы чувственно-воспринимаемого мира средствами обычного сознания, путём чистого размышления (гипотезирования). Признается, что для этого обычного сознания сверхчувственный мир должен быть завуалирован и что лишь благодаря своему собственному внутреннему преображению душа должна вступить в сверхчувственный мир, если она хочет достичь сознания о нём.
На этом пути познается также и то, что происхождение нравственных импульсов надо искать в том мире, который душа созерцает свободно от тела. Из этого мира в душевную жизнь прорываются побуждения, которые происходят не из телесной природы человека, но независимо от нее определяют человеческие поступки.
Когда человеку станет известно, что "я" с его душевно-духовным миром живет вне тела и что само это "я" подводит переживания внешнего мира к этому телу, то будет найден также путь к истинному, сообразному с духом пониманию относительно загадки судьбы. Человек в своем душевном переживании полностью связан с тем, что он переживает как судьбу. Рассмотрим душевное состояние тридцатилетнего человека. Действительное содержание его внутреннего бытия было бы совершенно иным, если бы он в предшествовавшие годы пережил нечто другое, чем то, что с ним было. Его "я" немыслимо без этих переживаний. И если они обрушились на него как исполненные страданий удары судьбы, он благодаря им стал тем, кем он стал. Они принадлежат к тем силам, которые действуют в его "я", а не встречают его извне. Как человек на духовно-душевном уровне живет с цветом, и цвет становится для него восприятием, только будучи отражен телом, так живет он в единстве со своей судьбой. Человек душевно связан с цветом , но воспринять цвет он может только если тело его отражает; с причинами удара судьбы человек сущностно связан с одной из предшествовавших жизней, но переживает он удар вследствие того, что его душа вошла в новое земное бытие, в котором она неосознанно вовлекла себя в переживания, соответствующие этим причинам. В обычном сознании человек не знает, как соединять свою волю с этой судьбой; достигнув свободного от тела сознания, он может обнаружить, что он не смог бы волить самого себя (dass er sich selbst nicht wollen koente), если бы он той частью своей души, которая как существо находится в духовном мире, не хотел бы всех частностей своей судьбы. Загадка судьбы тоже решается не так, что выдумывают гипотезы о ней, но благодаря тому, что учатся понимать, как человек срастается со своей судьбой посредством переживания души, выходящего за пределы обычного сознания. Затем человек познаёт, что в задатках земных жизней, предшествовавших нынешней, заложены причины того, почему он переживает то или иное в соответствие с судьбой. Судьба является в том виде, как она представляется повседневному сознанию, но не в своем истинном обличье. Она протекает как следствие предшествовавших земных жизней, взгляд на которые недоступен обычному сознанию. Увидеть, что удары судьбы связывают человека с его предшествовавшими жизнями, означает то же самое, что примириться с судьбой.
Ради таких философских загадок, как эта, тоже следует, обратиться к указанным духовнонаучным сочинениям автора, как к более подробному изложению. Здесь можно лишь обсудить наиболее важные результаты этой науки, не указывая подробно путей, ведущих к тому, чтобы убедиться в них.
Своими собственными путями философия ведет к познанию того, что надо от наблюдения шагать к переживанию мира, который она исследует. В процессе рассмотрения мира душа переживает нечто такое, на чем она не может остановиться, если она не хочет быть нескончаемой загадкой для самой себя. С этим наблюдением дело обстоит в действительности так же, как и с семенем, которое развивается в растении. Семя может найти свой путь двояким образом, когда оно созрело. Оно может быть использовано человеком для питания. Если растение исследуют, имея ввиду такое его использование, дело приходится рассматривать с иной точки зрения, нежели в том случае когда зерно продолжает свой путь, то есть его опускают в землю, и оно становится зачатком нового растения. То, что человек переживает душевно, имеет подобным образом двоякий путь. С одной стороны, это переживание служит наблюдению внешнего мира. Если душевное переживание исследовать с этой точки зрения, то выстраивают мировоззрения, которые, прежде всего, вопрошают: каким образом познание проникает в сущность вещей; что может дать рассмотрение вещей? Такое исследование надо сравнить с исследованием питательной ценности зерна. Но можно также взглянуть на душевное переживание, если оно, не будучи отвлечено на нечто внешнее продолжает действовать в самой душе, ведет её от одной ступени бытия к другой. Тогда это душевное переживание постигают в отношении присущей ему движущей силы. Осознают её как некоего высшего человека в человеке, который в одной жизни подготавливает другую. Приходят к постижению того, что это и есть основной импульс душевного переживания. И что познание относится к этому основному импульсу так же, как использование зерна для пищи - к тому перспективному пути этого зерна, на котором оно превращается в зачаток нового растения. Не учитывая этого, живут в заблуждении, будто бы можно в сущности этого душевного переживания искать сущность познания. Из-за этого впадают в ошибку, подобную той, какая возникла бы, если бы исследовали питательную ценность зерна чисто химическим путем и захотели бы в результате этого исследования найти внутреннюю сущность зерна.
Характеризованная здесь духовная наука пытается избежать этого заблуждения, когда хочет раскрыть собственную внутреннюю сущность душевного переживания, которое на своем пути тоже может послужить познанию, без того, чтобы иметь в этом наблюдающем познании свою исконную природу.
Нельзя путать описанное здесь "свободное от тела сознание души" с такими душевными состояниями, которые достигаются не путём охарактеризованной здесь внутренней собственной работы души, но возникают из разлаженной, депрессивной духовной жизни (в грезящем ясновидении, под гипнозом и так далее). При этих душевных состояниях мы имеем дело не с действительным переживанием души в свободном от тела сознании, а с соединением тела и души, отклонившемся от нормальной жизни. Истинная духовная наука может быть достигнута только тогда, когда душа в собственной, самостоятельно выполненной внутренней работе найдет переход от обычного сознания к такому, с которым она ясно переживает, будучи внутри духовного мира. В такой внутренней работе, которая является усилением, а не депрессивным нарушением обычной душевной жизни.
Посредством подобной внутренней работы душа человека может достигнуть того, чего добиваются от философии. Значение последней отнюдь не мало, хотя на пути, по которому большей частью идут философы, философия не может прийти к тому, чего она хочет достигнуть. Ибо более существенны, нежели философские результаты - те силы души, которые могут развернуться во время философской работы. И эти силы, в конце концов, должны все же привести туда, где философии могла бы признать "свободную от тела душевную жизнь". Там она узнает, что человеческая душа хочет не только научно размышлять над мировыми загадками, но и переживать их, после того как она приведет себя в состояние, в котором подобное переживание возможно.
Ближайшим является вопрос: итак, должно ли теперь обычное, пусть даже строго научное познание отречься от самого себя и ценить в качестве мировоззрения лишь то, что даётся ему из области, лежащей вне его собственной? Дело всё же в том, что переживания охарактеризованного здесь сознания, отличающегося от обычного, сразу же просветляют это обычное сознание, насколько оно само себе не множит препятствий тем, что хочет замкнуться в своей собственной сфере. Найдены сверхчувственные истины могут быть лишь такой душой, которая ставит себя в сверхчувственное. Если же они найдены, то могут быть вполне понятны обычному сознанию. Ибо они неизбежно примыкают к тем познаниям, которые могут быть получены для чувственного мира.
Не следует отрицать, что в ходе мировоззренческой эволюции, повторяясь, выступают точки зрения, сходные с теми, которые в этой заключительной главе связывались с рассмотрением дальнейшего хода философских стремлений. Однако в предшес-твующие столетия они появляются как побочные пути философского поиска. Этот последний должен был сначала пронизать все, что можно расценивать как продолжение эллинистической вспышки мыслительного переживания, чтобы из своих собственных импульсов, угадывая то, чего он сам может или не может достигнуть, указать на путь сверхчувственного сознания. В прошлые времена путь подобного сознания обходился без философского оправдания; он не был востребован философией. Но философия современности уже требует этого пути всем ходом своей предшествовавшей эволюции, проделанной без него. Она без него подошла к тому, чтобы ориентировать духовное исследование в таких направлениях, следуя которым, естественным образом приходят к признанию сверхчув-ственного сознания. Вот почему в начале этой заключительной главы не было показано то, как говорит душа о сверхчувственном, если она без дальних предпосылок может встать на его почву, но была сделана попытка философски отследить направления, которые выявляются из новых мировоззрений. Было указано, как следуя по этим направлениям, живущая в них самих душа, приводится к признанию сверхчувственной сущности душевного.
Дата публикации: 01.10.2009, Прочитано: 13458 раз |