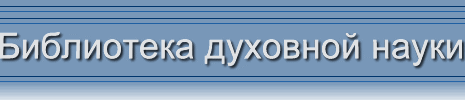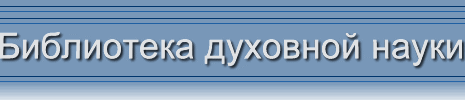|
Главная → О Рудольфе Штейнере
...Сотням людей он помог выбраться из безнадежной пустыни и подняться к жизни, исполненной глубокого духовного смысла.
Габриэлла Ройтер
Современная безысходность только тогда найдет свое разрешение, когда научное объяснение Вселенной и человека будет соответствовать инстинктивному доверию к безусловной ценности отдельной личности и будет выработан взгляд на религию, не отрицающий сверхъестественные моменты вероучения, но включающий религиозные представления в научную картину мира. Большинству ученых это кажется невозможным, а многие религиозные мыслители считают предосудительной саму попытку найти такое разрешение.
Факт остается фактом: такой ответ был дан человеком, чья мысль в огромной мере опиралась на научное знание, кто всегда думал, говорил и писал как ученый. Этот человек — Рудольф Штейнер.
Артур Персл Шеферд
Рудольф Штейнер является одним из самых значительных людей нашего столетия. Во многие области жизни — педагогику, медицину, сельское хозяйство, искусство — работы Штейнера дали новые импульсы, опередившие свое время, актуальность и правомерность которых с течением лет блестяще подтверждаются. Многие вопросы, актуальные сегодня, Штейнер видел еще в первой четверти ХХ столетия. И многие его идеи получили сегодня мировое признание и распространение. Но еще важнее тот факт, что практическим преодолением материализма Штейнер внес в мир новый духовный импульс, импульс, по-новому ориентирующий мышление, укрепляющий душу и открывающий путь, на котором чистый дух может реализовать себя на практике.
Кристоф Линденберг
Беспристрастный взгляд на его обширное наследие позволяет увидеть одного из величайших мыслителей всех времен, овладевшего современными науками в столь же поразительной степени, что и древним знанием. Штейнер — не более мистик, чем Альберт Эйнштейн, он прежде всего ученый, но такой, который отважился проникнуть в тайны жизни. <...> Как может возродиться вера в двадцатом веке? Ответ Рудольфа Штейнера гласит: вера может вернуться в нашу жизнь лишь благодаря прогрессу в области познания.
Рассел У. Дэйвенпорт
Он видел рост нищеты и предлагал пути выхода из экономического кризиса. Он видел наступление голода и закладывал основы нового сельского хозяйства. Он видел деградацию господствующего научного материализма и ориентировал своих учеников на естествознание в новом духе. Он видел тяжелое положение подрастающей молодежи и разрабатывал новую систему воспитания. Он видел беспомощность современной медицины, особенно в области душевных болезней и заболеваний мозга, и предлагал использовать для исцеления достижения гуманитарных наук. Он видел религиозно-моральное одичание и помогал дезориентированным людям обрести надежную религиозную опору.
Фридрих Риттельмайер
Штейнер являет — даже для тех, кто отрицает его открытия — такие способности разума и качества сердца и воли, которые могут конкретным примером убедить нас в том, что провозглашенный им путь не есть нечто недостижимое для человека, по крайней мере, в будущем. В Штейнере мы можем наблюдать, как начинается реальная трансформация homo sapiens в homo imaginans et amans.
Оуэн Барфилд
Такой личности ставят в вину даже ее достоинства, когда они переходят за обычную черту. Какое количество хороших умов восстало против простой возможности существования такого синтеза знаний, одновременно естественных и сверхъестественных, из которых постоянно могло исходить вдохновенное созидание. Они предпочли находить дешевые объяснения на уровне магии и шарлатанства.
Мужество, с которым он превозмогал испытания, пугало еще больше.
Симона Риуэ-Короз
Более поразительного и гениального лица, чем у него, я никогда не видел в жизни, и та история мира, которую он раскрыл в своем курсе, ... поразительна и необычайна. Это грандиозный синтез точного знания с боговдохновенностью.
Максимилиан Волошин
Солнечную улыбку его знали многие; о ней говорили; о ней — сказать надо; ни на одном портрете не запечатлелась она.
Андрей Белый
Его лица невозможно передать, потому что оно все — пламя воли, но не неподвижной и не внешней, а горящей изнутри и каждый миг изменяющейся.
Максимилиан Волошин
В 1909 году... я однажды видела маленькую фотографию Рудольфа Штейнера. Тогда же произошел мой первый разговор с Бугаевым. «Посмотрите: это немецкий ученый, который утверждает, что можно познать духовный мир с помощью научного метода», — сказал он мне тогда. «Отважный ученый», — ответила я. Но в этих чертах выражалась не только отвага, но и огромная серьезность, какая-то не поддающаяся словесному определению сила.
Ася Тургенева
Наряду с его глубокой серьезностью в его обращении с людьми сильней всего выступала эта излучающаяся от него теплота. Своей приветливостью и юмором он всегда старался перекинуть мост через пропасть, которую мы чувствовали между ним и собой.
Маргарита Сабашникова-Волошина
От него исходила мудрая доброта, которая наполняла все вокруг.
Фридрих Риттельмайер
Все без исключения, кто приближались к нему, свидетельствовали, что не было человека, который с таким благожелательством склонялся бы ко всем заботам, беспокойствам, горестям, которые ему доверяли, человека, который понимал бы любые слабости, поддерживал бы все усилия, радовался бы всем успехам, всякому счастью.
Симона Риуэ-Короз
Слушать его было целым переживанием, потому что образование у него было потрясающим и, в противоположность нам, у которых оно ограничивалось литературой, невероятно разносторонним; после его лекций или некоторых частных разговоров я всегда возвращался домой одновременно восхищенным и несколько удрученным.
Стефан Цвейг
Встреча с Рудольфом Штейнером заставила меня впредь не терять его из виду, все время отдавая себе отчет в его значимости. Мы оба одинаково чувствовали необходимость вновь обратить человека к подлинной внутренней культуре. Меня радуют те свершения, которыми его великая индивидуальность в своей глубокой человечности одарила мир.
Альберт Швейцер
В моей внутренней жизни нет ни единой грани, которая не было бы заново освещена высоким учением Рудольфа Штейнера и не испытала бы его благотворного воздействия... Велика моя благодарность за это безмерное богатство... Поистине прекрасно стать еще раз учеником в мои годы. Всем своим существом я ощущаю омоложение, дающее силу и обновление также моей музыкальной деятельности.
Бруно Вальтер
Главным и решающим для меня узнаванием было то, что Христос стоит в центре всего, о чем говорит Рудольф Штейнер. Антропософия открылась мне как современная форма христианства. Эта встреча с антропософией была самым счастливым периодом моей жизни.
Михаил Чехов
В проступках против себя доброта его не знала границ. Мария Яковлевна говорила ему: «Сострадание имеет границы». Он отозвался: «Нет, — сострадание границ не имеет».
О любви же он говорил: это — дающая способность: чем больше даешь, тем больше имеешь дать; всякая настоящая любовь, по его словам, имела свойство: безграничного расширения.
И он — расширялся.
Андрей Белый
Можно было бы подумать, что он, способный читать в душах своих ближних, не умел различить то, что бывало в этих просьбах своекорыстного, а иногда и просто коварного. А может быть он видел, но не обращал на это внимания? Не говорил ли он себе то, что он однажды ответил, когда удивлялись, что он позволяет так себя обманывать, никогда не защищаясь: «В конце концов, ведь и сострадание имеет пределы». — «Нет, сострадание пределов не имеет».
Симона Риуэ-Короз
Я никогда не забуду устремленный в прошлое взгляд Штейнера. Его зоркая, бдительная духовность излучала такую чистоту, такую убедительную правдивость и скромность, что все мы, сидевшие в зале, ощущали себя свидетелями величайшего общечеловеческого события. ...Моральная чистота? В этой атмосфере все дышало ею. Самоотдача? ...Бескорыстие?
Если спросить, как выглядит чистый, ниспосланный Богом дар? Да только так, и никак иначе.
Фридрих Риттельмайер
...Я пришел к твердому убеждению, что в Рудольфе Штайнере мы находим одну из самых истинных, самых прекрасных, самых чистых человеческих духовных индивидуальностей, когда-либо живших на земле. И его биография является Мистерией, глубины которой еще и сегодня все еще мало исследованы.
Для меня Рудольф Штайнер, как едва ли какой-либо другой человек, является тем, кто в современном подражании Христу не только говорил и писал о духовных истинах, но так же жил ими и благодаря этому нераздельно связал их со всем человеческим существом, в действительности — был ими.
Поэтому почитание, которое можно иметь по отношению к духовному существу Рудольфа Штайнера, является тем большим, чем большего человек достиг в его понимании.
Сергей Прокофьев
Этот человек, несомненно, совсем особое явление, которое надо попытаться принять со всей серьезностью. Он выдвигает несколько учений, в которые я давно поверила, — среди прочего в то, что нашему времени не соответствует религия, построенная на недоказуемых чудесах, что ей надлежит быть наукой, опирающейся на доказательства; теперь надо уже не верить, а знать. И еще: человек может сам добыть знание о духовном мире благодаря упорной, сознательной, систематической работе мысли. Не сидеть сложа руки, подобно мечтательному мистику, но, призвав всю мощь мышления, сделать видимым обычно скрытый от нас мир. Все это истинно и достоверно, к тому же все у него внушает доверие, все умно и не имеет ничего общего с шарлатанством. Через несколько лет его учение будет провозглашаться с церковных кафедр.
Сельма Лагерлеф
Сначала меня отпугивало, что Рудольф Штейнер, такой научный ум, руководил секцией Теософского общества. Теперь я поняла, почему он так поступал: только в этом кругу он мог найти людей, для которых проблемы конкретного духовного пути что-то значили. Им он и хотел указать путь, соответствующий нашей эпохе, — последовательное развитие естественнонаучных методов. Штейнер взял на себя руководство Германской секцией Теософского общества с условием, что он будет вести свою работу совершенно самостоятельно и давать духовноведение, проистекающее из его собственных духовных исследований. Из этого источника, а не из традиций, он черпал свою христологию. То, что давал тогда Штейнер, было для того времени совершенно ново. С тех пор многое, о чем он писал и говорил, оказало влияние на культуру — независимо от того, сознают это люди или нет. Даже те, кто считали своим долгом бороться с учением Рудольфа Штейнера, зачастую обязаны ему более живым пониманием догматов, которые они сами отстаивают.
Маргарита Сабашникова-Волошина
Вся жизнь Рудольфа Штейнера была направлена на то, чтобы по-новому обосновать реальность духа применительно к познанию. Он сам был наполнен этой реальностью духа и обнаруживал ее в каждое мгновение — в этом можно было убедиться, наблюдая его в различных областях деятельности.
Как же выглядел обыкновенный рабочий день Рудольфа Штейнера на этапе его жизни между 1919 и 1924 годом, в то время, когда он неоднократно приезжал в Штутгарт? Я опишу это, исходя из воспоминания, которое весьма отчетливо запечатлелось в моей памяти.
Читать далее...
Герберт Хаан
О проявлениях сердечности можно было бы написать томы. Велика была «мудрость», поставленная между любовью и долгом, но сила любви превышала порою и мудрость: количество приемов ширилось; час, способный вместить шесть свиданий от готовности выслушать — вмещал двенадцать свиданий; придешь по специальной записи: хвост ожидающих; выходишь: и — тот же хвост; автомобиль ждет; упакованы вещи, а доктор сидит и выслушивает; и — как выслушивает.
В такой обстановке протекало мое последнее свидание с ним; до меня — хвост; и после — хвост; автомобиль уже был подан (доктор из Штутгарта уезжал в Дорнах); когда он вышел ко мне и ввел меня в комнату, мы уселись за столиком; на нем — лица не было; трудно выслушать толпу сменяющихся людей, пришедших каждый со своим главным; его ответы звучали конкретно, попадая в цель, но развертывались лишь в годах; все то мелькнуло в последнем свидании; он, повернув ко мне переутомленный лик с добрым орлиным носом, покосился с непередаваемою улыбкою: «Времени-то мало: постарайтесь сказать кратко все, что у вас на сердце». Двадцатиминутная беседа живет, как многочасовая — не оттого, что я сумел сказать все, а оттого, что он мимо слов ответил на все...
Андрей Белый
Его советы отличались особой осторожностью и добросовестностью. В эти моменты он бывал максимально сосредоточенным и бдительным. Я часто видел его таким. Добросовестность его не имела себе равных. Все, что он предлагал, было глубоко продумано. Каждое слово, каждая интонация взвешивались с учетом тончайших духовных состояний собеседника. И выражалась эта осторожность в непосредственной человечности и доброте.
Вы можете проникнуться доверием к врачу, видя его у постели больного. И точно так же люди проникались глубоким доверием к Рудольфу Штейнеру, наблюдая, как он рекомендует свои упражнения (я наблюдал за этим как нельзя более пристально).
Я беседовал с сотней людей, побывавших на приеме у Штейнера. Снова и снова приходится удивляться, сколько человеческих жизней прошло через его душу, какое участие проявлял он к ним, как уверенно и проницательно руководил ими.
Иногда меня просто изумляли рассказы людей о том, что именно посоветовал им Рудольф Штейнер, как молниеносно озарял его совет самую суть человека. Никто и никогда, даже в самой доверительной беседе, не говорил о каком-либо вреде, причиненном советами Штейнера. Все, кто последовал его советам, отзывались о нем с чувством величайшей благодарности. Они получили важнейший жизненный стимул, надежные указания пути наверх, самые глубокие душевные радости, озаряющие опыты постижения духа.
Фридрих Риттельмайер
...Однажды заметив, что инженер чем-то расстроен, Штейнер спросил его о причинах горя. Оказалось, что глазной врач обнаружил у него в одном глазу катаракту, грозящую захватить и другой глаз. На вопрос, была ли у него тяжелая юность, инженер ответил утвердительно. «Эта болезнь — ее следствие, — сказал Рудольф Штейнер, — но мы попробуем остановить процесс. На другой глаз он ни в коем случае не перейдет». Он посоветовал ему пить настойку из трав в виде чая через определенные промежутки времени и вместе с тем дал ему медитацию. В дальнейшем инженер никогда не жаловался на болезнь глаз. Насколько я знаю, зрение у него сохранилось до глубокой старости.
Маргарита Сабашникова-Волошина
...Я попросил врача, сотрудничавшего со Штейнером в течение двенадцати лет, сказать мне совершенно откровенно, как часто Штейнер ошибался. Врач задумался и ответил: «Не припомню ни одного случая».
Фридрих Риттельмайер
Связь Рудольфа Штейнера с землей, с сельскохозяйственным трудом уходила своими истоками в детство, когда ему приходилось постоянно помогать родителям в работе на небольшом садовом участке. Характерен в этом отношении его ответ некоему восторженному слушателю, который после одной из лекций подошел к нему со словами: «Своими потрясающими откровениями вы, конечно же, обязаны основательному изучению философии!» — «Я думаю, — возразил Штейнер, — скорее тому, что в детстве привык сам чистить свои башмаки».
Йоханнес Хемлебен
...Рассказывают, как на одной железнодорожной, узловой станции произошла путаница с принятием поездов; выскочил испуганный начальник станции, не понимая, что следует предпринять, чтобы избежать неминуемой железнодорожной катастрофы; вдруг около него вырастает фигурка бритого господина, вмешиваясь в инцидент; не проходит и минуты, как фигурка уверенно распутывает создавшуюся ситуацию; еще минута: и начальник станции, выведенный фигуркою из тупика, отдает быстрые приказания: уже подымаются сигналы к стрелочникам; передвигаются стрелки; и наконец, без катастрофы проносится мимо станции поезд. Фигурка, предотвратившая катастрофу, — Штейнер.
Андрей Белый
«Доктор» бывал повсюду, находил решения для всего, давал указания директорам, устанавливавшим в большом городском зернохранилище свои километры холстов и свои щетки и кисти. Музыканты получали от него мотивы для оркестровки. В мастерских, где писали, лепили, шили, вышивали, столярничали, репетировали, он брал в руки карандаш, кисть, молоток, поправлял драпировку костюма, интонацию реплики. Все напряженно старались понять его намерения, так как каждое из них, успешно реализованное, поражало своей жизненностью и подлинностью. Он давал каждому войти в дух его роли, сыграв ее раз перед ним с таким реализмом, который раз и навсегда определял ее основное зерно. Еще сегодня большинство жестов, и даже интонаций, которые кажутся личной особенностью актера, идут от этого творчества Рудольфа Штейнера на сцене в Мюнхене, переданного с силой, до сих пор еще не иссякшей.
В те минуты, когда он так играл для исполнителя какую-либо деталь его роли, чувствовалось «ваяние духа». В персонаж воплощалась духовная реальность, и потому присутствовавших так потрясало это творчество. Этот жест, эта интонация были «истинны», Другими они быть не могли.
Симона Риуэ-Короз
Надо было слышать живую речь Рудольфа Штейнера, чтобы понять его глубокую внутреннюю связь с языком. Естественное звучание его мягкого голоса было приятно окрашено венским диалектом, а широкий интонационный диапазон позволял во время репетиций... озвучивать роли всех персонажей.
Йоханнес Хемлебен
Для художников-профессионалов, предложивших свою помощь, трудность заключалась в том, чтобы преодолеть условные привычки. Наброски, эскизы Доктора ставили их перед лицом подлинного, но во время исполнения все загружалось банальной красивостью, и произведение теряло удивительный оттенок зримой истины. Художники понимали это сами. Они охотно смывали свои создания и протягивали ему кисть. Таким образом, он был вынужден, от темы к теме, переделать всю живопись малого купола. Но он вкладывал в это столько деликатности, смешанной с тонким юмором, такое уважение к произведениям других, что никто не чувствовал себя умаленным, наоборот, были счастливы учиться у такого мастера.
Симона Риуэ-Короз
...Когда мы сами с инструментами стояли за работой, нас поразила выдержка доктора Штейнера. Мы были вынуждены каждые полчаса делать паузы, пальцы у нас были изранены, все шло так, как будто в дерево вгрызалась мышь. Но он стоял на своем ящике часами, спокойно и ритмично ударяя по стамеске, лишь время от времени бросая быстрые взгляды на небольшую гипсовую модель. Целиком уйдя в работу, он словно вел диалог с деревом или вслушивался в происходящее, — и форма все сильнее выступала из древесной массы, как бы освобождаясь от оболочки.
Ася Тургенева
Он переходит от одной задачи к другой, движимый не знающей отдыха активностью. Одного дорнахского дня в «спокойный» период, то есть без переездов или конгресса, было бы достаточно, чтобы свалить самых выносливых. День часто начинался беседой с рабочими на стройке Гетеанума. Затем шли переговоры, касающиеся исследований, ведущихся в различных лабораториях или мастерских, репетиции эвритмии, посещения Клиники и прочие проблемы или консультации, вплоть до вечерней лекции. Среди всего этого он набрасывает модели для художников, рисует «формы» для эвритмистов, и, когда есть возможность, работает над деревянной скульптурой. И подлинная его работа начиналась по окончании лекции, после десяти часов вечера: духовная концентрация над новыми областями исследований, ответы, которые нужно найти для вопросов, поставленных прошедшим днем. Часто, когда к нему обращались с вопросами личного или делового характера, он отвечал: «Я дам вам ответ завтра».
Можно было заметить, однако, что в последние годы ответы становились все чаще мгновенными, как будто ясновидческие способности не нуждались больше в усилении этой ночной работой, чтобы постоянно воспринимать реальности духа. Это постоянное «присутствие духа» стало его естественным состоянием, без затемнений, без того, чтобы требования его телесной оболочки чинили ему препятствия. Были ли ему еще знакомы состояния «сумеречные»? Спал ли он еще? Едва ли. Стали замечать, что в последнее время постель его оставалась нетронутой в течение нескольких ночей. Конечно, он уже с давних пор обладал способностью давать «отдых» организму, не прибегая к ослаблению сознания. Он сам дал описание способов мышления, не вызывающих разрушения нервных клеток. Тем, кто мог бы принять эти указания за теорию, он приносил теперь доказательства практического осуществления.
Сверхъестественное стало для него естественным, и именно это дает понять, что жизнь, которую он вел и которая была бы «беспокойной» для другого, переносилась им всегда с легкостью и полным самообладанием.
В минуту отдыха, за столом, во время эвритмической репетиции он был естественен, полон юмора, любил цитировать остроумные замечания или анекдоты. Он снимал натянутость с окружающих, так как догадывался о том напряжении, которое могли испытывать люди, живя рядом с ним. Мария Штайнер сознавалась, что находясь рядом с ним, было трудно обладать всей необходимой способностью к восприятию. «Хотелось бы иметь больше времени, чтобы усвоить все это богатство».
Что же вело его этим все ускоряющимся темпом и все с большей уверенностью от созидания к созиданию? Можно, без сомнения, ответить так, как он часто давал это понять: сознание, что нельзя было терять ни минуты, ввиду положения, в котором находится человечество, И здесь также слова наиболее близкого свидетеля, Марии Штайнер, являются подтверждением: «Когда решались просить его поберечь себя и делать немного меньше, — говорила она, — это вызывало неудовольствие...» — «Делать меньше? — отвечал он, — Но нужно было бы делать раза в четыре больше!»
Симона Риуэ-Короз
На лекциях в Париже в 1906 году он говорит о кометах, он описывает их состав и утверждает, что они содержат в своей атмосфере газообразные соединения класса цианидов. Спектральный анализ установил только в 1910 году, что спектр комет совпадает со спектром синильной кислоты.
Механическая теория кровообращения, по которой сердце, действуя, как насос, толкает кровь, была энергично оспариваема Рудольфом Штайнером. Это не сердце, — говорил он, — приводит кровь в движение, это динамизм крови приводит в движение сердце. С тех пор эти представления были радикально пересмотрены и подтверждают сегодня слова Рудольфа Штайнера. Он восставал против абстрактной теории деления нервов на двигательные и чувствительные, от которой отказалась современная физиология.
Симона Риуэ-Короз
...Он мог, беря в руки камни, металлы, или ступая по почве, указывать их особенности; целое ювелирное искусство оправления драгоценных камней в родственные им металлы родилось впервые из этих указаний.
Он воспринимал геологическую природу земель и одарил сельское хозяйство драгоценными открытиями о воздействии известняка, кремнезема и других веществ, составляющих почву. Более пятидесяти лет уже с успехом применяются его данные о сродстве каждой почвы с растениями, которые произрастают на ней, и о сродстве растений между собой и так далее. Он мог указать, как, считаясь с действием почв, растений и времени года, увеличить способность брожения, которая активизирует жизнь чернозема. Целый метод возрождения почв возник отсюда. Он сумел воспринять и отметить в свою эпоху жизнь тел, которые тогда считались неодушевленными. Он смог утверждать: Земля внутри Космоса — организм, который живет и дышит, и находил средства доказать это.
Эта способность чувствовать излучение вещества сказалась особенно ярко при указании лекарств, соответствующих больным органам. Он умел прослеживать жизнь человеческого организма до чрезвычайной степени сложности, еще не подозреваемой официальной медициной. В случае болезни он узнавал зарождение, природу изменения, открывал связь органа с минеральным, растительным или даже с животным веществом, воздействие которого восстановило бы равновесие функций пораженного органа. Это вещество он умел доводить при помощи тонких манипуляций до максимальной степени эффективности. Забрасываемый вопросами, тысячами частных случаев, он давал огромное количество сведений, самых драгоценных, самых редких, о лечении болезней веществами, которые соответствуют им в природе. Клиники и лаборатории вдохновляются сегодня этими данными, но материал так обширен, что его не исчерпали еще и по сей день. О некоторых растениях, телах, случаях вам говорят: «Да, об этом существуют указания Доктора, но мы еще не умеем ими пользоваться».
Симона Риуэ-Короз
Меня всегда поражало, сколько тайн он носил в себе и сколько их он унес в могилу. Ни один человек не знал этого. Не только потому, что никто и никогда не сумел выманить хотя бы намека на хранимые в его сознании секреты. Ведь мог же он проговориться случайно? Но он ни разу не проговорился. Он говорил лишь то, что могло помочь, и избегал того, что могло навредить, даже в будущем. Его большие темные глаза становились еще более внимательными, строгими, бдительными. Он взвешивал каждое слово с таким сознанием ответственности, больше и чище которого нельзя вообразить. Казалось, он незаметно вступал в некий храм, где за ним наблюдают глаза высших сил. На это действо хотелось созвать все человечество, всех восприимчивых людей, чтобы они хотя бы увидели, что это такое.
Фридрих Риттельмайер
Оглядываясь на жизнь и творчество Штайнера, хочется крикнуть людям и всему современному миру, ощутившему себя на краю пропасти: кого и чего вы ищете — преодоления материализма? решения социального вопроса? возрождения науки, искусства, религии? — Пути разрешения всех этих проблем указаны Рудольфом Штайнером. Они не соответствуют устоявшимся представлениям. Надо ли их отвергать за это? Пренебрегать ими из-за непривычности языка? Или потому что некоторые ученики не обладают силой убеждения? А разве иначе было в древности, во времена великих пророков и водителей человечества? Дало ли себе наше время труд вникнуть должным образом в наследие Рудольфа Штайнера? Попыталось ли оно взвесить его слова, воспринять и оценить его бесчисленные начинания? Книга о жизни Рудольфа Штайнера, написанная сегодня, не может не заканчиваться столь горькими словами.
Йоханнес Хемлебен
Что же меня больше всего поразило в этом облике? Это была какая-то энергия прямизны, которой, казалось, целиком был охвачен этот человек. Когда он упругими шагами пересекал аудиторию, его голова в этом движении оставалась в покое; шея была откинута назад, как у орла. «Как может человек так ошеломляюще походить на орла?» — думала я.
Маргарита Сабашникова-Волошина
Однажды мы что-то обсуждали между собой, когда поэт Петер Хилл, абсолютный бедняк, подсел к нашему столику и заказал кофе. Мы все знали, что у него не было ни копейки, и спрашивали себя, как он выпутается из положения. Уходя, он, однако, подозвал кельнера. Кельнер подошел и сказал: «Все уплачено». Пораженный Петер Хилл воскликнул: «Тут, верно, ангелы летают. Кто из вас это сделал?» Это был не я, а Штейнер заявил, что он был уже доволен и тем, что смог заплатить за свой кофе. Так как больше никого уже не было, Петер Хилл ушел, качая головой.
На заре мы со Штейнером отправились домой, и он сказал мне с покорным видом: «Я должен идти пешком, у меня нечем заплатить за трамвай». Со своей стороны я ничем не мог ему помочь и предложил проводить его. Он жил за Берлином. Мы шли и вели интересный разговор, и он заметил: «Вот видите, Саксерль, как хорошо, что я сыграл роль ангела. Если бы не это, мы не имели бы такой прекрасной прогулки на заре». Как ни незначителен этот факт сам по себе, он был характерен для этого будущего духовного представителя человечества.
Вольдемар Сакс
...Он был легко-мыслящий, резво-мыслящий (символами, парадоксами, шутками); легкий и острый.
Но, повторяю, его шаловливость — явление горнего порядка; о ней можно говорить лишь условившись о том, что фон этой шаловливости установлен точно и прочно: раз навсегда; он — огромная серьезность, огромная строгость, огромное страдание, огромная любовь.
Андрей Белый
Я стоял напротив старика, старого нижнеавстрийского крестьянина, ... который почти до смерти выработался на своей земле и вот стоял передо мной, высохший и изношенный, добрый, очень добрый человек, напрягавший все свои силы и полностью отдавший всего себя.
Макс Хайек
Одет он был просто, до чрезвычайности; но все, что он ни надевал, — удивительно обрамляло его; неизменный сюртук, в котором появлялся он на доклады, собрания, в котором читал он, был часто — далеко не первой новизны; но сидел изящно; и вовсе не думая о сюртуке, доктор прекрасно носил его; умел носить; его сюртук, как бы делался в моем восприятии принадлежностью его тела, как и непроизвольно сбившаяся на лоб и непокорно бьющаяся прядь волос, которую он откидывал, то движением руки, зажавшей пенсне, то головным откидом; все, что ни делал он, было как жест — непроизвольно изящно, непроизвольно мило; и все мы любили, как нос, как глаза его, — его галстук, повязанный широко и свободно, кусок черного шелка с мотающимися концами; видел его я и одетым официально; на похоронах — в старомодном каком-то, особой формы цилиндре, не слишком высоком и с расширением кверху; этот цилиндр придавал ему что-то от фигур, изображенных художниками 40-х годов; сороковые годы истекшего века, годы идеализма, — они-то и придавали ему этот налет старотонности, почти старомодности, что в сочетании с печатью нового человека, человека будущих веков, так ярко сиявшей с его лица, придавало особенную остроту впечатления от всех его жестов; менее всего жило в нем настоящее, как бы стушевываясь и пропуская прошлое; более всего жило — будущее.
<...>
Видел я доктора в перемазанном стареньком пиджачке, в ботфортах (от грязи), месящего дорнахскую осеннюю глину, — старенького какого-то: лицо — в тысячах морщинок. И в этом смиренном, как бы угасшем виде, он был прекрасен; красив, — нет. Говорят, — был и красив, не знаю, — с этой точки зрения я его не разглядывал. Для меня он был — прекрасен: всегда!
<...>
...Происхождение же «шарфа» — таково: доктор смолоду никак не умел постичь искусство завязывания галстука, что ему подчеркивали дамы, пока одна из них, взяв шелковую тряпку (а может свой бант), не перевязала доктора: ларчик открылся; «несчастные» галстуки были заброшены; и всю жизнь он перевязывался шарфом, элиминировав непокорный галстучный узел.
Соедините сюртучок, развевающийся пышный шарф, старенький зонтик, шляпу с черными полями и... ботфорты, почти до колен — странная картина: ботфорты он надевал в грязные дни (в Дорнахе на работах временами было непролазно). Фигура — ни на что не похожая; а все вместе — «какое-то, эдакое свое»: изящно, невинно, откровенно, мило.
Поражали меня невинной наивностью вкусы доктора: о, он не был безразличен к пище! У него были любимые блюда; двумя из них накормили меня дома, но всего раз: вареные, невкусные волокна какой-то травки (может быть, ревеня), горьковатые; и мятое тесто, облитое сладковатой подливочкой. Отведав эти блюда, мне стало стыдно: а мы-то с нашими деликатесами, «кухней»? Очень он любил «миндальное молоко», его главное питье.
Андрей Белый
...Бывало, шепчет в уши ему семидесятилетняя старушка о том, что она во сне увидела мышь, — а доктор, склонив ухо к ней (на одно ухо он плохо слышал), слушает ее с огромной серьезной заботой, приговаривая нараспев: «Зоо... Зоо... Зоо...» . И в склонении головы, и в моргающих добродушною озабоченностью глазах, — искренняя печать: любви к старушке.
Андрей Белый
Через несколько дней, собравшись уезжать, мы с женой неожиданно встретили его на Дорнахском холме. Увидев, что я несу два чемодана, он сказал:
— Я все-таки забыл прислать вам кого-нибудь, чтобы донести чемоданы.
Он оглянулся и сделал знак оказавшемуся поблизости молодому антропософу. Я стал возражать, но он не стал слушать:
— Для юноши это одно удовольствие.
Потом он пошел с нами в столовую и сел за столик. Он сам заказал для нас завтрак, а потом еще еду на дорогу. И проводил нас до самого вокзала, непринужденно беседуя по дороге об отдельных людях, но и о солнечных протуберанцах. На вокзале он встал в очередь за билетами... и, продолжая разговор, оставался с нами до самого отъезда. Он явно не хотел, чтобы я тратил свои обесцененные инфляцией деньги, но сумел как-то между прочим оплатить наш счет. Я был весьма тронут, а он сказал:
— Дело не лично в вас. Хорошо было бы помочь всем людям, но к сожалению, не получается.
Таким был Рудольф Штейнер в быту. Мне всегда хотелось рассказать об этом эпизоде, хотя кому-нибудь он и покажется незначительным.
Фридрих Риттельмайер
Он считал вежливость необходимой чертой в общественных отношениях, как и во всех формах внешней жизни, недостаток корректности являлся для него признаком недостаточной внутренней дисциплины. У него, правда, корректность сливалась с врожденной благожелательностью, — сердечная доброта рождала формы. Но там, где не хватало тонкости чувств, он тем более требовал уважения к внешней форме, во избежание вульгарности и грубости, которые не замедлили бы появиться. В начале нашего знакомства я встречала его в некоторых литературных кругах. Он всегда резко отличался от окружающих его людей. Он казался принцем духа среди неотесанных бревен, и хотя он часто бывал окружен очень замечательными людьми, он отличался от других, как хорошо закаленная сталь от необработанного металла... Ни один из портретов Штейнера не походил так на него — в те дни, когда на его лице еще не было глубоких морщин, рожденных заботами, горем, беспрерывной умственной работой и бессонными ночами, — как картина Рембрандта «Ein Krieger in Rüstung». B этой позе он мог сидеть, задумавшись, вернувшись со своих лекций или отложив перо, которым он только что исписывал страницы почерком, который я любила называть «звездным» (stellaire).
Мария Штейнер
Я поблагодарил его за советы, которыми он издалека помогал мне во время болезни. С выражением величайшей доброты он отклонил мою признательность:
— Нет, дорогой доктор, это я благодарю вас за то, что вы дали возможность оказать помощь.
Это были последние слова, с которыми он обратился лично ко мне, когда еще жил на Земле. Я не мог себе представить, что завершение нашей жизненной встречи будет столь многозначительным и прекрасным. Это было как разговор с самим человечеством, и в тот момент я имел право считать себя представителем человечества. А человечество? Даст ли оно ему «возможность оказать помощь»?
Фридрих Риттельмайер
Последние мгновения земной жизни Рудольфа Штейнера были свободны от всякой борьбы с телесной природой, от всякой неуверенности, свойственной в смертный час столь многим людям; на лике его запечатлелось умиротворение, внутренняя уверенность, благодать, духовное прозрение. Он сложил руки на груди, глаза излучали свет, сосредоточенно созерцая миры, в которые он вступал. С последним вздохом он сам закрыл глаза, но в комнате не возникло ощущения конца, — напротив, казалось, здесь вершится высочайшее духовное деяние. Возвышенно-просветленное бодрствование выразилось в его чертах, в молитвенной стати рук. И подобно тому как средневековые мастера придавали изображенным на саркофагах рыцарям такой облик, что закрытые глаза казались зрячими, а упокоенное тело — застывшим лишь на миг, так и его покоящаяся фигура выражала неземное бодрствование, готовность идти вперед в расступившихся сферах духа.
Гюнтер Ваксмут
Лишь со священным трепетом могу я говорить об этих вещах. Но страдание друзей, которые шесть месяцев не видели и не слышали столь любимого ими Мастера и руководителя, их жажда хоть что-то узнать о происходившем в это время — настолько огромны, что я чувствую себя вынужденной говорить. Все должны знать, как велик, как мощен он был также и во время своей болезни.
Мы жили тихо и замкнуто. Кроме госпожи д-р Штайнер, которая приходила каждый день, когда находилась в Дорнахе, а не решала важные задачи в других местах, допускались только члены Правления с короткими посещениями. Госпожа д-р Штайнер и члены Правления были теми, кто связывал его с внешним миром. Он радовался их приходу; когда же поставленные задачи удерживали их вдали от него, как радовался он добрым вестям от них; как эмоционально он принимал депеши, посылаемые госпожой д-р Штайнер из каждого города, где происходили эвритмические представления, — депеши, сообщавшие об огромном успехе эвритмии! Как сердечно благодарен он был самоотверженному служению г-жи д-р Штайнер и ее эвритмической группы, неизменно приводящему к триумфу. Он не мог не радоваться каждой победе красоты — он, кто и сам был: сама красота, само благородство, сама доброта, сама любовь.
Свою болезнь он переносил с терпением и достоинством. Он невыразимо страдал от того, что физические силы неуклонно покидали его, вынуждая принимать все больше заботы о себе — его, который всегда был самодостаточным и не рассчитывающим на внешнюю помощь. Но дух его сиял все ярче, и его сияние стало для меня прекрасным переживанием в это время боли.
Читать далее...
Ита Вегман
Теперь мы оказались перед фактом: Рудольф Штейнер умер. Но это слово не годилось для него. Теплая жизнь овевала эти помолодевшие черты, нежно освещенные мягким свечным сиянием. Его окутывало белое одеяние, выделялись лишь темные волосы. Покой, исходящий от него, не был смертным покоем, — это не было и сном. Он внимал... и задавал вопросы. При жизни его часто воспринимали как совесть, и совесть пытались иногда отклонить неуместным в его присутствии поведением. Происходила как бы беседа с глазу на глаз, которая обрывалась и вновь возобновлялась. Но последнее слово всегда оставалось за ним. Теперь каждый стоял перед ним со своей совестью, и он с бесконечной кротостью предоставлял всем свободу действий. Когда я повернулась к выходу, то увидела просветленный, прекрасный лик госпожи Штейнер, взирающий на нас из темноты. Было такое впечатление, что она вобрала в себя все, что было пережито другими. Только она встала над смертью.
Несмотря на увеличивающийся поток посетителей, я еще не раз заходила в мастерскую. Можно ли было расстаться с ним? Всякий раз он менялся. На третий день он был надмирно прекрасным. Одна любовь выражалась в его чертах. Если припомнить игру солнечных лучей в цветных стеклах окон Шартрского собора, то возникающее при этом настроение отчасти сходно с тем, которое было у нас в этот третий день. На четвертый день к его выражению лица добавилось нечто энергичное, почти строгое и одновременно отстраненное. Друзья сняли с него посмертную маску.
Ася Тургенева
Он учил нас преодолевать агностицизм, духовную смерть.
Он вернул нам религиозность, стоящую вне всяких сект. Сегодня, когда нам было дано пережить вместе этот святой торжественный обряд, вспомним, как к Рудольфу Штейнеру пришли пятьдесят богословов, прося его дать им возможность связать снова их богословие с жизнью духа. В белом зале Гетеанума, из которого впоследствии распространился огонь, Рудольф Штейнер установил тот обряд, который теперь совершается над ним самим — священниками Христианской Общины.
Мы знали Рудольфа Штейнера — самого правдивого, самого внутренне прекрасного, самого доброго и самого святого человека из встречавшихся нам в течение десятков лет. При помощи всех способностей, данных нам самым трезвым веком мира, исследовали мы его дело. Мы не могли обнаружить ни одного пятна на этом человеке. И все же его поносили и клевещут на него даже теперь, когда он еще не предан земле. Но Рудольфу Штейнеру обязаны мы также и тем, что мы никого за это не осуждаем.
К выявлению истины — науки о духе — Рудольф Штейнер присоединил еще выявление красоты. Он дал нам эвритмию, он дал вместе с Гетеанумом новую архитектуру, новую пластику, новую живопись. Данное им нам в Гетеануме мы не сможем охватить словами. Разрушение Гетеанума разрушило и его жизненные силы. С тех пор он перестал быть от природы жизненно-сильным человеком, а продолжал им быть только благодаря своей необычайно укрепленной воле, той воле, которая непрерывно возобновлялась мудростью сверхчувственного.
В день Михаила он, уже больной, в последний раз пришел к нам. После этого он лежал в своей мастерской в ногах статуи Христа, которую он сам создал, и работал там с утра до поздней ночи. Он поручил доставлять ему каждую новинку книжного рынка, и в его мастерской скоро составилась большая библиотека; это указывает на то, что Рудольф Штейнер до последней минуты любил мир.
Я хотел бы говорить также и как швейцарец. Многие швейцарцы, любившие Рудольфа Штейнера, хотели, чтобы он стал гражданином их страны. Одна швейцарская община предназначила для этого Дорнах (и Дорнах наверняка принял бы его) и предложила ему по единогласному решению право гражданства. Но Рудольфу Штейнеру не суждено было стать швейцарцем.
Я хочу сказать еще несколько слов о болезни нашего Учителя. Ему становилось очень трудно ходить оттого, что прежде всего жизненные силы покинули его ноги. Также и питание становилось все затруднительнее. Но это не мешало его сердцу биться все с той же любовью, а голове думать все столь же ясно — до последней минуты. Еще в последнюю пятницу Рудольф Штейнер оставил кровать и пересел на кушетку, потому что на ней ему было легче. Он оживленно беседовал с окружающими, мы говорили себе, что кризис миновал. На следующий день я его опять застал на кушетке, но он был молчалив и грустно смотрел на нас. Я спросил врача [доктора Иту Вегман], почему Доктор так печален; она сказала мне о своих опасениях. В воскресенье произошел возврат болезни, решительно лишивший его физических сил. Но и эта потеря сил не затронула ни его сердца, ни мышления. Рудольф Штейнер до самого конца сам давал указания относительно того, что надо делать. Даже борьба со смертью не была для него борьбой. Не было того, что обычно видишь при умирании, не было агонии, было лишь тихое дыхание. И в его устремленном взгляде читалось глубокое размышление. Нам казалось, Рудольф Штейнер погружен в глубокую божественную проблему. Он думает над божественной истиной. И это мышление переходило — все больше — в молитву. Впечатление было такое, что Доктор в духе царит над своим телом, становящемся все бестелеснее. Он в духе смотрел вниз на это тело. Иначе думать было невозможно; и в тот момент, когда он в последний раз вздохнул, показалось, что разорвалась нить, которую слабо потянули: это было совсем слабое, — нельзя сказать «болезненное» содрогание, — но совсем нежное, нежное высвобождение. И в этот момент Рудольф Штейнер закрыл глаза.
<...>
Рудольф Штейнер часто говорил о Граале. Он был исполнителем — Парсифалем. Он нам снова показал мир таким, что мы смеем верить тому, что мир изшел от Бога. И он умер так, что мы чувствовали присутствие Христа в его смерти. Пусть он воскреснет в наших делах, пусть его дух воскреснет в наших делах и мы постараемся, насколько сможем, освящать наши дела.
Альберт Штеффен
Какое удивительное было у него лицо в первый день после смерти — словно в летнем сне, спокойное и размышляющее. Как будто в каждую минуту он мог проснуться и рассказать нам о том, что пережил его дух — там наверху, у богов.
Его умирание было молитвой — так рассказывали нам. Несколько часов лежал он в глубоком размышлении, смотрел вдаль. И все больше и больше его размышление становилось молитвой. Он лежал недвижимо тихо, со сложенными руками. Он только сказал еще несколько милых слов своему другу, ходившей за ним фрау доктор Вегман, внутренне с ним связанной. И лишь после ряда часов он закрыл глаза и умер. Без борьбы со смертью. Его молитва на земле была окончена.
А для нас было — словно молитва его духа продолжалась. Как будто его могучая молитва шла через наши печальные души. И там, где в наших сердцах встречалась радость воскресения и боль смерти, там что-то расцвело и воспарило, унесенное ввысь его молитвой. И то, что для каждого из нас было благодарственной молитвой, для всех вместе стало несомненным образом будущего.
На второй день он показался мне иным. Теперь на его проодухотворенном лице лежала тень страдания. Словно в этом лице отразилось нечто от боли многих сотен друзей, притекших из разных стран. Теперь было трудное переживание радости воскресения. Но из его блистающего лба торжественно исходили серьезно-радостные мысли.
Затем наступил третий день.
Опять произошло изменение. Теперь перед нами был лик святого: без боли, без греха. Лик сверхчеловечески великий, но в то же время в малом содержащий все, что прекрасно, хорошо и истинно. Непостижимо далекий от нас — и в то же время совсем близкий. Божественный, но несущий все человеческое.
Его благородный лоб стал более сверкающим, чем раньше. Глубоко лежащие глаза таили тайны Вселенной. Языком Вселенной говорил его прекрасный рот.
Никогда еще не видели таких рук. Они были крепкими, как у человека, привыкшего к трудной работе. Но они были проодухотворены до последнего мускульного волокна. Ими работал он в твердом дереве. Ими он писал свои ясные, легкие рукописи. Бесчисленным людям снова и снова подавал он свою руку, и все ощущали это как благословение.
Каждую ночь у смертного ложа стояла стража любящих друзей. Шесть врачей и четверо других его близких должны были в последнюю ночь по двое держать стражу. И часы, проведенные там нами, были незабываемой красоты и святости.
Была тихая мирная весенняя ночь. Луна светила, как солнце. Черные демонические облака все старались закрыть ее сияние, но все ярче бросала она на землю солнечный свет.
А в мастерской, теперь в гробу, священное тело. Вокруг горели свечи, бросая свой золотой блеск на черный гроб. Поднимался аромат цветов, говоря нежным языком души. Немного в стороне на своем ложе бодрствовала фрау доктор Вегман. А в ногах стояла великая молчаливая статуя Христа — с жестом, указующим на судьбы Вселенной.
Слева и справа от гроба стояли мы, два врача, как стражи, охраняя пламя свечей, чтобы они горели спокойно и ровно.
Какой все имело чужой и таинственный вид... И в то же время такой знакомый. Вставали образы древнего прошлого, серебром вспыхивали в сиянии свечей и исчезали. Когда-то это уже было... И раз навсегда знали мы: это — вневременное событие. Оно указывает на древнее прошлое, оно указывает на далекое будущее. Здесь сплавляются прошлое и будущее, образуя вместе вечный космический образ. Образ божественного водительства и мирового предназначения человека.
Приходили друзья снимать маску. Молча мы стояли вокруг. А когда узнали, что маска вышла хорошо, то радостно подумали: слава Богу, теперь даже через столетия люди смогут увидеть это выражение самой глубокой мудрости, самой проникновенной любви, самой горячей святости.
Во мраке раннего утра уже запели птицы. И когда пришла фрау доктор Штейнер, чтобы последний час провести около открытого гроба, мы благоговейно приветствовали мужественную женщину, с такой силой духа переносящую свою великую скорбь, и тихо ушли.
Ф. Цейльманс ван Эммиховен
Его оболочка сгорела в огне силы его творчества и любви. День ото дня видели мы это сгорание организма. Было известно, к чему это должно привести — и все же этого нельзя было изменить. Из огня его одухотворенности и его любви все снова приходила сила, которая принуждала истощенное тело к высочайшим, сверхчеловеческим трудам. Пока наконец не наступило то, что должно было наступить: благородное орудие его воли лишилось сил, и он слег — 23 сентября. Накануне Михайлова дня он в последний раз говорил с друзьями. Опаленный, выжженный тем неописуемым, что он совершил в последние месяцы, что примкнуло последним звеном к непрерывной цепи таких же трудов.
В июне состоялся сельскохозяйственный курс в Силезии. Была открыта новая область, дана полнота знаний, восхитившая сердца практиков, открывшая им будущие перспективы. Самое насущное для уже разработанной, испытанной области, излившее из себя невероятные возможности совместного действия практики и духовного познания.
Затем в июле — педагогический курс в Голландии. В августе — чисто духовноведческий курс в Девоншире. Последний. Все это одновременно с побочными курсами, с бесчисленными переговорами, с писательской работой и, так как не хватало дневных заседаний, — с убийственными ночными заседаниями по хозяйственным и общественным делам.
Приближался сентябрь. Уже надвигался Лондон и связанные с ним мероприятия. Второго должно было начаться собрание в Дорнахе при громадном стечении народа. В то же время были нужны заседания для учреждений в Штутгарте. Утомленный приехал он в Дорнах, чтобы тотчас же ночью уехать в Штутгарт и там проводить ночные и дневные заседания. В это время в Дорнахе я предприняла доклады для уже прибывших слушателей курса о языке, и пятого он мог сам начать прекрасное выступление. Не отдохнув и самого малого времени после штутгартских трудов, приступил он к работе. В это же время он прочитал курс о медицине и курс для Общины христианских священников, достигающий высочайших высей откровения. Ежедневно три курса несказанной силы духовного полета, удивительной полноты детализации и практических указаний. При этом — по крайней мере три доклада в неделю об Антропософии и прекраснейшие доклады для рабочих Здания.
У нас кружилась голова: нельзя слова было сказать, чтобы он поберег себя. Просить об этом — значило препятствовать. Так должна была исполниться судьба. Он сам часто говорил нам, что многочисленные частные разговоры — они-то и уложили его. Доклады, по его мнению, он мог распределить сообразно своим силам, и в них самих содержалась поддерживающая сила для него. Остальным, уступая просящим, он уже не мог управлять, уже не мог соразмерять с остатком своих сил. Четыреста посетителей насчитал привратник, в то время как он давал в день четыре доклада. Уже давно не было ни мгновения покоя, чтобы восстановить то, что было разрушено в силовом организме. Так разразилась над нами судьба.
<...>
Того, что дано нам, достаточно, чтобы воспламенить все наше оставшееся существование. Сознание того, что мы потеряли, спасает нас от донкихотства и от опьянения звоном слов, которые не подтверждены фактами. Дела, которые мы сможем совершить, наполняясь мыслью нашего Учителя, никогда не смогут быть ничем иным, кроме снопа цветов на алтарь того, кто связал миры.
Если мы не осознаем этого в полном объеме, то рискуем потерять всякий масштаб, всякое ощущение расстояния, уровня и различения.
Мария Штейнер
...И вот я стоял перед видимой оболочкой, которую его дух нес на себе в земной жизни. Теперь он, Рудольф Штейнер, сложил с себя эту оболочку. Пусть имя его никогда не изгладится из памяти людей. Оболочка земная лежала еще не тронутая на последнем ложе так, как он сам закрыл глаза, как сложил руки... В головах у него — Мария Штейнер, олицетворение чистейшей духовной любви: она мне передала священнейшее завещание, придавшее мне бодрости, и у меня на устах умерли слова, которые я мог бы сказать ей в утешение. Бесконечная благодарность великой женщине, которая так несет в своих руках и в своем сердце самое дорогое наследие человечества. Всякий, встретивший ее взгляд, уходил оттуда утешенным.
И вот я смог погрузиться в созерцание его при ярком свете позднего утра, проникавшего через верхний просвет в комнату, полную свидетелей его неутомимого творчества вплоть до последнего часа; и если надо сказать то, чего нельзя выразить словами, то попробую сделать это при помощи образа и сравнения.
Так говорил рот: мудрость умолкла для земного слова, но глубина этого священного молчания есть красноречие духа.
Так говорили глаза: бесконечная доброта светит сквозь сомкнутые вежды; кто когда-либо видел взгляд этот, тот снова встретит его в вечности.
Так говорил лоб: наивысшая сила сияния любви проистекает оттуда, где высшая мудрость все снова и снова зажигалась о пламень сердца.
Так говорили руки: освященные силою слова на творчество, они отдыхают от работы, но в себе они хранят высокую силу благословения.
И на это отвечал невыразимо длинный ряд образных воспоминаний более чем за двадцать один год, которые все свидетельствовали о личном общении с милым, добрым Учителем и Наставником, заслуживающим бесконечного почтения. Его дело продолжит жизнь — может быть, более грандиозная, чем мы подозреваем сегодня. Его творчество непрерывно продолжается среди людей во всех мирах, но личное человеческое воспоминание возлагает обязанность давать от его доброты всем тем, кто подходит к ней с открытым сердцем. Я знаю, что многие это чувствуют, питаясь от своей безграничной благодарности.
Тот, кто встречался с ним, знал, что перед его взором, проникающим в сердце, можно было обнаружить свои слабости, которых не надо было стыдиться, и смущение перед его неизмеримой, непостижимой добротой несли как драгоценное сокровище на протяжении всей последующей жизни. Как часто его неправильно понимали; и как часто снова всплывало после многих лет из души слово истины — мысль, полная силы, — и тогда оно, возродившись из своей собственной сущности, говорило громко, подобно голосу совести; и как часто бывало уже слишком поздно, чтобы воплотить его в действии.
После обеда я опять был в этой комнате в длинной веренице друзей, собравшихся вместе из разных стран. Теперь дневной свет сменился тьмой, и при свете свечей этот почитаемый нами лик казался еще просветленнее и священнее, чем утром. А надо всем высоко возвышалась статуя Христа, которую его руки оставили хотя и незаконченной, но полной величественного выражения. Освещенная сбоку свечами, левая сторона Его Существа выражала сильнейшую боль, но рука указывала ввысь. Тут я увидел и Иту Вегман, которая верным стражем стояла в ногах. Как безгранично боролись ее самоотверженность и любовь на протяжении месяцев за дорогую жизнь, доверенную ей как врачу. Как многим обязаны ей все в смысле завещания Рудольфа Штейнера, оставленного им Гетеануму.
До вечера следующего дня приходили все новые толпы членов Антропософского Общества, — его ученики. Делегации от рабочих и с новой стройки Гетеанума, которые хотели еще раз увидеть «милого доктора Штейнера»; они пришли с цветами. Делегации от старших классов его свободной Вальдорфской Школы, являющейся его любимым детищем, и все ее учителя явились проститься со своим главным Учителем. И друзья, встречавшиеся часто впервые после многих лет, безмолвно смотрели друг другу глубоко в глаза, и каждое пожатие руки было клятвой.
Вечером третьего дня члены Антропософского Общества собрались на поминовение, причем душа Альберта Штеффена служила посредником между ним и нами. Полный благоговения, повторил он нам последние слова Рудольфа Штейнера, произнесенные им в день Михаила в широком кругу присутствовавших, и в этот момент пробились новые почки будущего роста и цветения.
Теперь, мир, проснись. Вглядись в дело покойного, если ты не мог познать живого. Не один человек переживал здесь, как страх переходит в благоговение. Этот великан выковал свой молот на твердейшем сопротивлении потерявшего дух времени, на жесткой мысли, и этим молотом он могущественно ударил по вратам Духа. И они распахнулись для того, чтобы никогда больше не закрываться; и если вы и ослеплены еще яркостью света, то все же — помните твердо:
ВРАТА РАСКРЫТЫ.
Карл Унгер
Всегда при встрече с Рудольфом Штейнером, когда он с вами здоровался и вы встречали его дружелюбный взгляд, вам чудилось, что этот миг — из будущего. Вы чувствовали: того, кого он сейчас приветствует и кому дано его приветствовать, того, собственно говоря, здесь еще нет. И вы отвечали ему, давая внутренний обет стать некогда тем, кого он в вас видел.
Маргарита Сабашникова-Волошина
|
|
 |